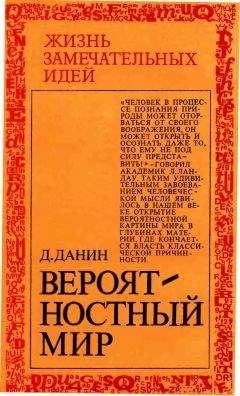Молодой петербуржец Иоффе, чья энергичная талант ливость вынуждала Рентгена прощать ему строптивость, ежедневно позволял себе в разговорах с учителем «бороться за электрон». И в конце концов — вместе с новой физикой! — одолел непреклонность старика. Это маленькое, но знаменательное событие произошло через десять лет после открытия томсоновских корпускул — в 1907 году, ничем особенно не замечательном в истории познания микромира.
В том году:
…Тридцатишестилетний Эрнест Резерфорд лишь обо сновывался в Манчестерском университете Виктории, согласившись возглавить тамошнюю лабораторию.
…Двадцатидвухлетний студент Копенгагенского университета Нильс Бор еще учился на четвертом курсе.
…Двадцатилетний Эрвин Шредингер слушал в университете Вены лекции на втором.
…Пятнадцатилетний Луи де Бройль посещал предпоследний класс гимназии в Париже.
…Шестилетний Вернер Гейзенберг в Мюнхене играл со сверстниками в крестики–нолики.
…Льва Ландау еще не было на свете.
У квантовой физики все было впереди.
3
С открытия электрона началось, наконец, конструиро вание атома: создание его правдоподобных моделей.
Впрочем, люди крылатой мысли пытались угадать атомную структуру задолго до появления в эксперименте «тел, меньших, чем атомы». Но они строили без строительного материала. И плоды их нетерпеливого воображения научной критике не подлежали. Защите — тоже. Не было критериев правдоподобия. Однако сила интуиции бывала порою поистине фантастической.
Вот дневниковая запись одного студента Страсбургского университета:
22 янв. 1887 г.
Каждый атом… представляет собою полную солнечную систему, то есть состоит из различных атомопланет, вращающихся с разными скоростями вокруг центральной планеты или каким–либо другим способом двигающихся характерно периодически.
Страсбургский студент, конечно, ничего не мог сказать о своих атомопланетах и центральной планете. Но тем не менее за двадцать четыре года до рождения экспериментально обоснованной планетарной модели Резерфорда он дал ее кратчайший графический набросок.
Это был юноша из Москвы — Петр Лебедев. Будущая знаменитость: первый экспериментатор, сумевший измерить такую малость, как давление света! Об его дневниковой записи 1887 года никто не знал в течение семидесяти с лишним лет, пока В. Н. Болховитинов не опубликовал ее в I томе «Путей в незнаемое» (1960). Так, сам Лебедев не знал, что за полвека до него атом рисовался солнечной микросистемой московскому профессору М. Павлову (чьи лекции радовали молодого Герцена). И Джонстону Стони — крестному отцу электрона — представлялся тот же образ. И шлиссельбуржцу Николаю Морозову — высокоученому провидцу–фантазеру — грезился этот же астрономический призрак. И трезво–солидному Жану Перрену тоже. И многим другим — до и после открытия электрона.
До и после… Но все равно каждому это видение являлось точно впервые в истории познания. Тут не было повторения пройденного — не было преемственности идей. Просто в разное время разных счастливчиков, одаренных конструктивной интуицией, посещал один и тот же вещий теоретический сон. Это выглядит антиисторично, а на самом деле легко объяснимо. Тут всякий раз поднимала голос непреходящая вера людей в единство природы. Она диктовала гадательную мысль, что малое и большое в мироздании — Солнечная система и атом — устроены, наверное, по единому принципу, В этом было совсем немного физики, но очень много натурфилисофии. А натурфилософия меняется несравненно медленнее, чем наука.
Те, кому образ солнечной микросистемы стал являться уже после открытия Томсона, обладали, разумеется, громадным преимуществом: обнаружились кандидаты на роль атомопланет. Почему бы электронам не играть эту роль? Или похожую роль… Так, японский теоретик Нагаока сконструировал в начале века атомную модель в виде Сатурна с электронными кольцами. Это выглядело нисколько не фантастичней солнечной модели.
Естественно, и сам Дж. Дж. Томсон, выведший электроны на историческую сцену, тоже начал придумывать атом. Начал без промедлений — уже в 1898 году. Но он не прельстился возвышенными астрономическими параллелями. Он отвел электронам совсем прозаическую роль «изюминок в тесте». (Говорят, это сравнение ему и принадлежало, а вовсе не последующим популяризаторам. И от его «атома–кекса» или «атома–пудинга», право же, веяло свойственной ему в те годы общительностью и легкостью.)
А что было тестом в томсоновском атоме, если отрицательно заряженные электроны являли собою изюминки? Тестом служило само атомное пространство — «сфера с однородной положительной электризацией», как объявил Томсон. Так обеспечивалась электрическая нейтральность всякого атома как целого. Этому физическому требованию обязана была удовлетворять любая модель·.
Но любая атомная модель обязана была удовлетворять и еще одному требованию: быть устойчивой — этим свойством со всей несомненностью обладали реальные атомы долговечного земного вещества. А томсоновский кекс не обладал.
Дело в том, что электроны–изюминки покоились в положительном тесте. Меж тем уже была доказана теорема, объяснявшая, что любая система неподвижных зарядов обречена на развал: силы электрического взаимодействия — притяжения или отталкивания — тотчас выводят заряды из состояния покоя.
Томсону пришлось озаботиться улучшением своей модели. И через шесть лет, в 1904 году, он позволил электронам вращаться внутри атома отдельными группками — кольцами. Однако желанного правдоподобия снова не получалось. Непоправимый порок гнездился в произвольной идее положительно заряженного пространства. Но это пока оставалось нераскрытым — неразоблаченным экспериментально.
Пока… До Резерфорда…
4
Он был учеником Дж. Дж. — первым заморским докторантом в кембриджском старинном Тринити–колледже. Когда в 1895 году двадцатичетырехлетний сын новозеландского фермера там появился, старожилы отнеслись к нему свысока. Но уже вскоре по Кембриджу распространилась фраза одного заслуженного физика:
— Мы заполучили дикого кролика из страны антиподов, и он роет глубоко!
Правда, слово «кролик» не очень подходило к ново зеландцу: высокий рост, атлетическое сложение, громадный голос. Зато эпитет «дикий» подходил как нельзя лучше: признавалась первозданная сила выходца из антиподов и слышался намек на его необузданный нрав. А рыл он действительно глубоко — столько глубоко, что первым дорылся до атомных глубин. Не сразу — пласт за пластом. Но чудом редкой проницательности он не задерживался в толщах пустой породы. Мало кто жил в науке так продуктивно.
Электрон был открыт на его глазах. И даже при его существенном участии, как засвидетельствовал другой ученик Томсона — Р. Стрэтт (Рэлей–младший). Но тогда же воображение новозеландца захватила иная — недавно возвещенная во Франции — физическая новость: радиоактивность!
То была еще совсем не изведанная земля. И это он, Резерфорд, распознал в непонятной радиации урана два вида заряженных лучей, окрестив их греческими буквами «альфа» и «бета». Он показал, что альфа–лучи — поток тяжелых частиц с удвоенным зарядом « + », а бета–лучи — поток легких частиц с единичным зарядом «—»., И это он установил, что радиоактивность — самопроизвольный распад сложных атомов, идущий по статистическим законам случая. Вместе с еще более молодым Фредериком Содди, он, едва переваливший за тридцать, высказал и доказал ошеломляющее утверждение: в каждом акте радиоактивного распада сбывается сама собой вековечная мечта алхимиков — превращение одного химического элемента в другой.
К исходу первого десятилетия нашего века, пожалуй, никто не был так подготовлен к раскрытию структуры атома, как Резерфорд. И ничье воображение не было для этого так хорошо тренировано, как у него…
…Однажды на банкете в лондонском Королевском обществе известный астрофизик Артур Эддингтон глубокомысленно сказал, что электроны, быть может, всего только «умозрительная концепция», а реально они не существуют. Резерфорд встал, и, по словам очевидца, у него был вид рыцаря, готового вскричать: «Вы оскорбили даму моего сердца!» А вскричал он следующее:
— Электроны не существуют?! Ах, вот как! Отчего же я вижу их так ясно, как эту ложку перед собой?
(Помню, лет десять назад мне случилось пересказать этот исторический эпизод в одной ученой аудитории. Все весело рассмеялись, кроме молоденького доктора химических наук. «Чепуха! — с удивительной серьезностью возразил он. — Наш глаз не может увидеть шарик диаметром в 10–13 сантиметра!» И победительно поправил сползающие очки. Раздался насмешливый голос его соседа: «Старик, ты никогда еще не говорил ничего более разумного, но Резерфорда из тебя не получится!»)