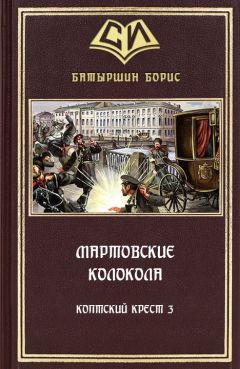— Ну, это ты зря. — разумно ответил Николка. — У вас вон, математике и физике всякой с химией, куда лучше чем у нас учат. — да и зачем тебе наши знания — в вашем, двадцать первом веке? Тебе же там жить, а не здесь…
— Ну, это мы еще посмотрим. — загадочно отозвался Иван. — Была бы моя воля…
Часть вторая
«В борьбе обретешь ты право своё» или День Рыжих Псов
Поздняя осень. В ясные вечера тяжёлым багрянцем наливается закат в далеких перспективах проспектов. Только где их найти, ясные — под самый–то конец ноября? Вот и сегодня то дождь — мелкий, всеохватный, — то низкие тучи неожиданно разбегаются, допуская взгляд к кусочку пылающего закатом небосвода. И тогда багровым светом озаряются баржи с дровами и лодки обывателей на лилово–чернильной воде Екатерининского канала… листьев на мостовой давно нет — всё превратилось в бурую прель, сметено дворниками, залито дождями, сожжено в кострах… Расплавленной латунью пылают окна домов, а горбатые мосты удивлёнными бровями приподняты над берегами каналов.
И снова враз тухнет багровое вечернее великолепие — свинцовый полог дождя смыкается над городом и моросит, моросит, моросит…
Скоро уже стемнеет; вспыхивают ровные цепочки фонарей, вдоль серых туманных линий набережных. Скрипят уключины барказов, переваливающихся утками в стылых волнах. Туда, дальше, в холодный свинцовый простор Невы, мимо строгих колоннад мрачных дворцов, мимо неуютных для человеческой жизни громад зданий…
Геннадий поёжился, кутаясь в шинель. Что за ерунда видится, в самом деле! Чёрт бы побрал этот город с его мистикой упырей и утопленников и Ночных и Дневных дозоров, которые, как ни крути, а подходят ему куда больше чем Москве. В самом деле — поверишь, что сквозь дворы–колодцы бежит, перепугано озираясь, Раскольников с окровавленным топором за пазухой, и заходится где–то в рыданиях девочка–проститутка Соня Мармеладова. А наискось, через площадь, воплощением имперской мощи тяжко скачет, не срываясь с гранитной глыбы, медный император — вековой державный аллюр над Невой. Навечно застывший взгляд выпученных глаз прожигает навылет созданный им и ненавидимый всяким нормальным человеком город… и бросается под колёса проезжающего экипажа мертвый чиновник — чтобы ухватить дрожащими пальцами за полы богатой шинели статского советника, объяснить что–то архиважное, поведать, втолковать. А если не поведает — всё, беда… как будто может быть беда горше самого этого города, выстроенного на гнилых болотах, на погибель всяческому живому дыханию и ясному разуму…?
— Так куды везти теперь, господа хорошие? — прервал размышления Геннадия извозчик. Седоки, взявшие пролётку на Литейном, велели ехать сначала на Екатерининский канал, но о том, куда ехать дальше — пока речи не было.
— Давай на Волково кладбище. — велел Геннадий. — Москвич, он уже довольно недурно научился ориентироваться в Санкт—Петербурге девятнадцатого века, хотя так и не привык к нему; и какая–то неодолимая сила тянула его сюда, на Екатерининский канал, к строительству, которое он увидел, лишь только приехав в столицу Империи. С тех пор дня не прошло, чтобы он не приезжал сюда, становясь к перилам на противоположной от стройки стороне водного потока — и подолгу простаивал так, глядя на суету рабочих, грузчиков–носаков, толчею барж — и порой, если случалось оказаться здесь около трёх часов пополудни, слушая траурное дребезжание колокола в часовенке. Не раз он говорил себе, что подобная сентиментальность — есть первый шаг к нарушению установленных им для себя правил конспирации, но ничего не мог поделать; дух девятнадцатого века, мрачная романтика «Народной воли», так не желающая стыковаться с форумными баталиями и массовыми белоленточными выступлениями, знакомыми ему по реалиям прошлой жизни, все сильнее захватывал молодого человека.
— «Да, теперь уже точно — прошлой» — думал Геннадий. Как бы не повернулось дело. Чем бы ни закончился этот грандиозный замысел, к прежнему существованию он уже не вернётся. Это не значит, впрочем, что он «отрясает с рук своих» прах двадцать первого века, нет. Наоборот, там, в будущем оставалось для него много полезного; но настоящая жизнь и настоящая борьба была теперь здесь. Мельком подумалось даже, что пора бы ускорить давно задуманное, да так и отложенное за недосугом дело — накопить здесь «неприкосновенный запас» предметов и материалов из будущего, которые могут пригодиться. Если порталы вдруг перестанут работать… или, если он вдруг потеряет к ним доступ. И тут же поймал себя на мысли — как–то самим собой разумеющимся показалось, что он сам в таком случае окажется на этой, а не на той стороне тоннеля времени…
Сосед Геннадия по пролётке и неизменные его спутник с момента приезда в Санкт—Петербург, Янис Радзиевич, молчал. Он знал о цели намеченной поездки, но, вероятно, догадывался о чувствах, охвативших товарища. Янис сопровождал Геннадия с момента их отъезда из Москвы; посвящать его в свои тайны лидер «Бригады Прямого действия» человек пока не решался, но всячески давал понять, что возглавляет активную, но тщательно законспирированную противоправительственную группу, разделяющую программу «Молодой Партии» революционной организации «Народная Воля». Сам молодой поляк, будучи деятельным членом этой организации и знакомый даже с кем–то из Исполнительного Комитета, отправился в Петербург, чтобы навести связи с товарищами из «Петербургской рабочей группы» которая после 1884–го года отделилась от остальной «Молодой Партии», действовавшей по всей остальной России.
Геннадий очнулся от своих мыслей.
— К Волкову кладбищу, любезный. — ответил он извозчику. — только сначала заедем в какую ни то похоронную контору, венок надо купить…
— Так это на Растанной! — обрадовался кучер. По Лиговке поедем — туда и свернём. Там все, которые на Волковом хоронят, завсегда венки покупать изволят…
Железные шины пролетки глухо застучали по торцевой мостовой. Это была особая питерская выдумка, подобной которой в Москве было не сыскать: своего рода «уличный паркет». На главных улицах и по направлениям возможных царских проездов мостовые выкладывали из шестигранных деревянных шашек, наложенных на деревянный настил. Геннадию не раз приходилось наблюдать, как рабочие искусно вырубали эти шашки по особому шаблону из напиленных деревянных кругляшей. Шашки скреплялись железными шпильками; после их замазывали газовой смолой и посыпали крупным песком. Это было удобно во многих отношениях: ступать по торцу было мягко, да и лошади не разбивали на нем ноги; что до езды, то она была куда тише, чем по булыжной мостовой. Однако, судя по рассказам тех же извозчиков (охотно пускавшихся в объяснения по всякому поводу), торец был недолговечен а так же служил рассадником грязи и дурного запаха, впитывая навозную жижу и становясь скользким при долгих дождях и гололеде.