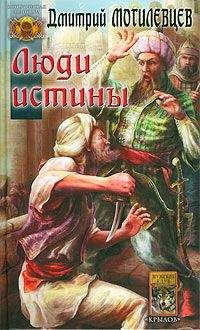Тюрки словили лишь нескольких головорезов непонятного рода, – да и тех по доносам местных жителей, всячески демонстрировавших покорность и радушие. Эмир карательного войска приказал содрать с пойманных кожу, оставил новый гарнизон взамен разбежавшегося и спившегося и отправился докладывать Низаму. А загадочные сыны Правды объявлялись то тут, то там от Ларистана до страны луров.
Ибн Атташ доверил Хасану с дюжину тех, кто вершил правосудие людей Истины, – не столько, чтобы помочь, сколько чтобы держать его в узде. К ним Хасан вскоре добавил пару дюжин своих. После каждой проповеди к Хасану подходили двое-трое желающих уйти с ним и слушать его, стать учениками и увидеть Истину. Среди них нередко оказывались и те, кто умел и любил держать в руках нож и искал повода приложить его за правое дело. Были это зачастую люди сомнительные, бродячие: странные дервиши, ушедшие из одного ордена, но так и не примкнувшие к другому, мелкие торговцы непонятным товаром, наемники из разбитых отрядов, беглые тати, а иной раз и очевидные сыны Сасана, учуявшие, где пахнет поживой и разгулом. Хасан всех их брал под руку, к удивлению многих старых братьев и даи. Те качали головами, когда Хасан говорил: ложь привыкшего лгать куда легче разглядеть, чем нечаянную ложь искреннего, а обманчивая верность искателей легкой доли куда надежнее горячности и пылкости тех, кто готов жизнь отдать за показавшееся им Истиной. Ведь воры и тати – люди потерянные, бродячие. У них нет дома, нет опоры под ногами в нашем зыбком мире. Нет у них сил остановиться и твердо упереться ногами. Даже последний нищий крестьянин, из года в год долбящий неподатливую землю, сильнее их. Потому они всегда, быть может и сами того не понимая, ищут сильного, норовят сбиться в стаю, встать крепко. Но куда им самим? Они обычного человеческого смысла не видят, не то что отблеска Истины. И потому их души, изъязвленные, больные, – податливее всего. И восприимчивее. Их легче взять за руку и повести за собой. Они смотрели в рот Хасану, боялись и любили его, – как учителя, как вожака, как старейшего и сильнейшего волка в стае. Хасан без труда распознавал их ложь, жалкую и простую, читал их мысли по их лицам и словам, – поражая их, ругая и восхищая, помня все их грешки и промахи. Он награждал и карал их, повелевал ими, никогда не требуя непосильного, – и никогда не обманывал.
Вот с этой хищной, бродячей стаей выследил Хасан хитрого отца Зейда и сына Сасана, толстого и злоумного брата Халафа, известного больше по прозвищу Два Фельса. И слушал, затесавшись в оборванную и обтрепанную толпу у масличного жома в окраинном саду, как, хрипя и подмигивая, проповедовал с перевернутой бочки вороватый толстяк.
– Я вам про правду скажу, – говорил Два Фельса. – По-простому скажу. Те, кто меня учил, – они больше знают. Они умные. Они большую Правду знают. Ту, которая сверкает и до которой нам, простым смертным, как до неба. А моя правда – вот тут, – он показал на жирное пузо.
По толпе прокатился смешок.
– От большой той Правды, говорят, душе хорошо. Ну да, конечно. Но чтоб ту Правду слушать, нужно, чтоб в брюхе что-нибудь тряслось, а? Голодному какие проповеди про душу, а? Сперва нужно, чтоб пузу хорошо было, так? Чтоб у него не отбирали жратву сами знаете кто, правда? Всякие узкоглазые кривоногие конелюбы, правда?
– Правда! – отозвались из толпы.
– А что с ними делать, чтоб они лапы свои поганые не клали на наше, на кровное, по2том политое? Что делать?
– Понятно что, – отозвался тот же голос. – Только попробуй, сделай, – они с тебя потом шкуру сдерут и на воротах вывесят.
– А, так потому я вас учить и пришел, братки мои, – ухмыльнулся Два Фельса. – Умом надо, умишечком. Косоглазые хороши на коне да в поле, стрелы класть да копьем орудовать. Сильны они там, сказать нечего. А вот в городах, здесь, у нас под боком, – они как дети малые. Скажите, кто их на базаре не обсчитывал? Разве что дети малые да дураки. Да, дураки, – потому что они у нас грабят, а когда обсчитаешь, хоть толику малую вернешь, правильно? Да еще жалеем их, на малое обсчитываем. Им хоть в пять раз, они глазом не моргнут. В этом-то, корешки мои, и дело, – чтоб не замечали, не могли дошевелить конскими своими мозгами. Изводить их надо незаметно.
– А как? Если с ножом на них, так они полгорода вырежут, – сказали из толпы угрюмо. – А как их еще изведешь? Молитвой, что ли? Или обсчитаешь до смерти?
– А в том-то и дело, братки мои, что если они и берутся вырезать, то не без повода. Без повода только бродячие тюрки режут, которых наш Великий султан почти что извел. А султанским зачем просто так резать? Ведь свои же деньги режут, свои доходы, налоги с нас. Если ваш, городской, тут на кого покусится, ножичком пырнет да найдут его, – тогда да, полетят головы, и без шкуры останетесь. А если не свой? Если пришлый какой, из Хорасана откуда-нибудь или из Гиляна? Даже если поймают, он тут никого не знает, пришел по своим делам, наделал бед, никто не помогал ему. А вы и рады услужить властям, чем можете. С вас и спроса нет, а может, даже и благодарность от тюрок глупых, – для них подсуетились, подхлопотали…
Два Фельса ухмыльнулся и замолк выжидающе. Но ненадолго, – кряжистый каменотес, стоявший рядом, пробурчал:
– А какое дело-то им, хорасанцам да гилянцам, до нас? Мы что, друзья с ними?
– А вот потому-то есть мы, сыны Правды, – подхватил Два Фельса. – Мы везде есть – от Каира до Хинда.
Люди переглянулись, там и сям послышался удивленный шепоток.
– Вот согласитесь вы промеж собой, что от такого-то вам мочи нет, и тот из вас, кто наших людей знает, нам и скажет: так-то, мол, и так-то. И все, больше вас ничего не касается. А мы уже сами посмотрим, что к чему, человечка нужного сами найдем. И, гляди-ка ты, господин наш светлый бек Абу Драл ибн Хватал то ли вином опился, то ли ножом подавился. И вы ни при чем!
Толпа загомонила оживленно.
– Так мы им и покажем потихоньку, что никуда не делись с этой земли ее исконные хозяева. Слышали, небось, что в Хормузде было? Вот то и со всеми ими будет.
– А вам что с того? – спросил каменотес угрюмо.
– А тогда уже не «вам» будет, а «нам», понимаешь? Потому что если ты согласишься, если свою монету или руку на наше общее дело дашь, то и сам станешь таким, как мы, понял? – Два Фельса ткнул пальцем в каменотеса. – Вот ты тогда станешь тоже одним из нас, из тех, кто выкидывает погань со своей земли. Своим скромным делом: парой монет или куском лепешки каким. И иные из вас, немногие, кто захочет почувствовать, как своими руками дело делается, – те с нами пойдут и клятвы дадут. И помогут кому-нибудь в Хорасане, к примеру. И тогда ни они, ни их семьи нуждаться никогда не будут, потому что мы все об этом позаботимся. Дело говорю?
– Ну, – буркнул каменотес, почесав темя.
– То-то и оно, – сказал Два Фельса назидательно. И вдруг, выпрямившись, объявил: – Ну что, братки, делаем дело?
Толпа, вздрогнув, замолкла испуганно, а потом в десятки глоток выкрикнула: «Да, да!»
Когда толстяк, спрыгнув с бочки, уже направлялся прочь, на его плечо вдруг легла рука. Два Фельса обернулся – и застыл от ужаса. Потом, скосив глаза, глянул быстро налево, направо. Его люди, стоявшие среди толпы или караулившие на подходах, были слишком далеко или, как мгновенно определил наметанный глаз толстяка, под пристальной опекой.
– Отличная проповедь, – сказал Хасан, улыбаясь.
– Я… да я, брат Хасан, я… – толстяк заикнулся и замолк, белея от ужаса.
– Не спеши пугаться, брат Халаф. Кто из нас не грешен? Деньги трудно не любить, в особенности когда их дают за просто так, за горсть слов.
Толстяк от такого утешения задрожал губами, словно порываясь взмолиться, – но голос ему не повиновался.
– Но многое прощается за благое дело, – сказал Хасан и, глядя в глаза толстяку, произнес медленно и негромко, но так, что каждое слово будто камень врезалось в душу: – Халаф ибн Саад ал-Асман, властью, данной мне, я нарекаю тебя даи Луристана. Теперь никто не посмеет обвинить тебя в самозванстве. Но знай: теперь твоя жизнь запечатана. Превыше всего земного ты – человек Истины. Ты должен нести ее – и слушать ее. А теперь – иди. Говори людям то, что сказал здесь. Ты – отличный проповедник, брат мой Халаф.
Спустя многие годы Хасан узнал, что, в отместку ли и в насмешку, а может, из искреннего уважения, Халаф по прозвищу Два Фельса на большом сборище воров и бродяг в ал-Кахире титуловал Хасана старшим сыном Сасана во всем Иране.
Недели шли за неделями, складывались в месяцы и годы. Проводил их Хасан, странствуя по Ирану из конца в конец, проповедуя, собирая деньги и людей, выведывая, рассчитывая, обучая и действуя. Перед тем как прийти в город, посылал своих узнающих, тех, кто мог спасти знанием, – поговорить с местными людьми Истины, выведать, разузнать, подготовить почву. Следом за разведчиками посылал своих верных, фидаи, – тех, кто мог спасти клинком, – чтобы они на месте проверили, безопасно ли находиться в городе самому даи Гиляна и Мазандерана. Затем прибывал и Хасан – скромным, незаметным дервишем, бродячим учителем или писцом, всего с парой-тройкой случайных попутчиков. И после каждого визита в городе появлялось больше домов, где могли спрятать человека Истины, больше купцов, дававших деньги на дело Истины, больше юношей, готовых отнимать жизни во имя ее. А еще Хасан тщательно выискивал, уговаривал, прельщал и заманивал тех, кто мог дать ему сразу многих, готовых воевать и умирать, – остатки разгромленных сект и тайных орденов, обломки давних восстаний, бунтовщиков и еретиков, даже скатившихся к чернейшему злодейству, – всех, с кем мог найти хотя бы одну общую цель. Всегда, приходя к ним, он уже вызнавал заранее про них все – сколько их, где их сила и какова надежда. Всегда он говорил с ними как сильный со слабым, предлагающий спасение и победу, – и потому немногие отказывали ему. Сумел он привлечь к себе и хуррамийя – людей, пытавшихся соединить ислам с древней верой людей Огня и люто ненавидевших всех чужих на земле Великого Ирана. Хуррамийа, гордо называвшие себя «парсиан», что на старом языке значило «персы», были многочисленны и свирепы и дали Хасану сразу множество послушных сабель и кинжалов.