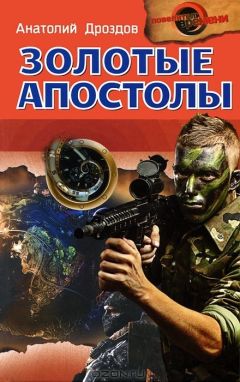Застолье было в разгаре, когда в дверь позвонили. На пороге стояла Дуня – в заметенном снегом пальтишке и вязаной шапочке.
– Вот! – протянула она мне тяжеленную (и как только дотащила!) сумку. – Дед велел передать к Рождеству. Я тут на сессии…
Появление Дуни в комнате вызвало такой же восторженный вопль, как когда-то мое в Горке, в день ее именин. Заочно ее знали все, а Рита, выскочившая из любопытства следом за мной в коридор, успела сказать, кто пожаловал. В сумке деда Трипуза помимо увесистого ведерка с медом оказалась бутылка медовухи; за моим столом она произвела тоже действие, что и в Горке. Мы пели, орали, перебивая друг друга, и даже пытались танцевать, теряя домашние тапочки на скользком паркете…
Дуня почти не принимала участия в наших безумствах. За время, что мы не виделись, она очень изменилась. Ничего уже не напоминало в ней прежнюю, порывистую девочку-подростка, она выглядела старше своих лет: степенная и вежливая молодая женщина. Забавные конопушки на ее лице почти исчезли, в ярко-синих глазах появился незнакомый мне свет. Несколько раз в течение вечера мы встречались взглядами, и всякий раз я смущенно опускал глаза
Я велел оделить медом всех, и мать на кухне разложила его по банкам. Пока мы со Стасом ходили в лоджию подымить, она имела возможность вволю поговорить с Дуней, и лицо у мамы приобрело уже знакомое мне решительное выражение. По-моему, в этот вечер она поговорила не только с Дуней… Родители и Телюки засобирались домой слишком рано. Даже Стас, с которым в этот день мы обычно нарезались до поросячьего визга и полного обездвижения довольных тел, увязался с ними. Рита сказала, что с удовольствием развезет гостей по домам, и все ухватились за ее предложение, будто это была единственная возможность попасть под родную крышу. Оставив Дуню в квартире, я пошел их провожать.
– Знаешь, сынок! – сказала мне мать во дворе, крепко прижимая к груди банку с медом. – Когда тебе было двадцать, больше всего я боялась, что однажды ты приведешь в дом какую-нибудь крашеную лахудру. А теперь стала думать: хоть бы лахудру… Пусть будет разведенная и с ребенком. Пусть вообще кто-то будет! Тебе – двадцать девять, нам с отцом уже за пятьдесят, мои подруги внуков уже в школу повели, а я своего даже на руках не держала…
Она всхлипнула, все также не отпуская банку. Я тоскливо молчал.
– Вот что я тебе скажу, – шмыгнув носом, решительно сказала мать. – Если Дуня сегодня уйдет от тебя в свое общежитие, ты мне – не сын! В кои веки найдется такая девочка: умная, чистая, добрая – такие только в провинции, наверное, остались, и то поискать… Понял! Скажи ему, отец!
– И скажу! – заплетающимся языком подтвердил полковник запаса Ноздрин-Галицкий. – Чтобы завтра с ней – в ЗАГС! А если ты не захочешь, я сам на ней женюсь!
– Я тебе сейчас женюсь, боров старый! – рассердилась мать. – Размечтался!
– И женюсь! – с пьяной настойчивостью подтвердил отец. – Раз нет внуков, заведу детей. Снова…
Я еле затолкал его в машину и, расстроенный, вернулся к себе. Пока я гулял на свежем воздухе, Дуня прибрала стол и сейчас, надев мамин фартук, домывала на кухне посуду. Я присел на диванчик и молча смотрел, как она ловко ополаскивает под струей горячей воды тарелки и составляет их мокрой стопкой на ребристой поверхности мойки. У меня вдруг закололо в груди: утро, яркий солнечный свет в окне с беленькой занавеской и маленькая ручка, ласково перебирающая мои спутанные после сна волосы… Не матери мне нужно бояться… Я сам себе не прощу…
Покончив с посудой, Дуня повернулась ко мне, пряча покрасневшие от воды руки под фартуком.
– Что-нибудь еще?
– Присядь! – попросил я, придвигая стул.
Она села на краешек, все также пряча руки. Я молчал, не зная, с чего начать, а она спокойно смотрела на меня своими синими глазами. Молчание затянулось.
– Так что делать, Аким? – вновь спросила она.
– Остаться, – удивляясь своей робости, тихо сказал я.
– Надолго?
В глазах ее заплясали искорки.
– Пока не надоест.
– Кому?
– Тебе.
– А если мне никогда не надоест?
– Значит, оставайся насовсем.
– У тебя некому мыть посуду?
– Я сам мою посуду! – взорвался я. – Сам стираю, сам глажу белье и убираю квартиру. Я умею готовить, а в армии меня научили пришивать пуговицы и даже штопать одежду…
– Зачем же тогда я тебе нужна? – спросила она, кусая губы, чтобы не засмеяться.
Я растерянно умолк. Она тоже молчала, весело глядя на меня своими искрящимися глазами.
– Ты будешь гладить меня по голове, перебирать мои волосы… – выдавил я.
– И только?
– Мы можем соприкасаться нашими родинками, – сказал я, чувствуя себя полным идиотом.
– Тебе же не понравилось! – всплеснула она руками. – Помнишь, тогда в Горке…
– Ну, я не ожидал… – забормотал я, с ужасом понимая, каким дебилом сейчас выгляжу. – Это было так вдруг…
– Смотрю я на тебя и глазам не верю, – сказала она, засмеявшись. – Умный, образованный, красивый – гусар, как Рита говорит, а предложение девушке толком сделать не умеешь… Не знаешь, разве, что в таких случаях говорят?
Она привстала. Меня рывком сбросило с диванчика. На колени.
– Ты что, Аким! – растерянно говорила она, пытаясь освободиться. – Не надо. Я пошутила…
– Мы будем ходить с тобой в обнимку в лунную ночь, целоваться и болтать чепуху, – твердил я, обнимая ее колени. – Я буду носить тебя на руках и согревать тебя своим телом. Я защищу тебя, если вдруг какой-нибудь волк выскочит нам навстречу, и задушу его голыми руками. Я никому не позволю тебя обижать и не обижу сам…
– Аким!..
Она вновь попыталась освободиться. Я не отпускал. Тогда тоже она опустилась на колени. Мы стояли напротив друг друга на замусоренном кухонном линолеуме, как двое ненормальных, и я осторожно стирал пальцами слезы с ее лица.
– Обещаешь не обижать, а сам уже обидел, – всхлипывала она. – Почти полгода ни звонка, ни строчки… Я по пять раз на дню почтовый ящик на компьютере открывала: вдруг по "имейлу" что, если по обычной почте нету?
– Слишком много всего случилось, – бормотал я, потрясенно гладя ее по голове. – Мне было сложно сразу разобраться. И в себе, и в чувствах. А потом подумал: я старше ее почти на десять лет, у меня вредные привычки… Она, наверное, уже забыла меня…
– Дурак ты! И не лечишься! – сердито сказала она и встала. – Знаешь, я тысячу раз это себе представляла: приеду, он бухнется на колени и будет просить прощения. Умолять. А я не прощу! – она топнула ножкой. – Ни за что не прощу!
Я смотрел на нее снизу вверх.
– Ну что смотришь, поднимайся! – сердито сказала она, снимая фартук. – Не стану же я гладить тебя прямо здесь, на этом полу…