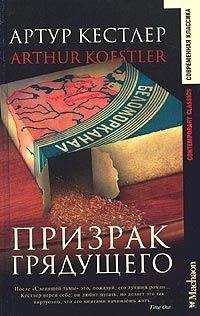Она услышала его шаги по скрипучим половицам. Свет вспыхнул без предупреждения. Она зажмурилась и с трудом разглядела его стоящим у двери, в черном траурном костюме и не менее траурном галстуке, с прилизанными влажными волосами, улыбающимся ей и с восхищением разглядывающим ту часть ее тела, которая оказалась без прикрытия одеяла.
— Может быть, встанешь? Пора пить аперитив. Пока Хайди одевалась за тонкой перегородкой у раковины, Федя курил (сидя на кровати и наблюдая за тем, как ее голова то появляется над перегородкой, то снова исчезает, словно она занимается шведской гимнастикой) и обдумывал положение. Со времени смерти Первого прошло два месяца, и напряжение стало мало-помалу проходить. Слухи о том, что всех загранработников отзовут домой, оказались ложными. Жизнь в посольстве и отношения в его Службе оставались примерно такими же, как и прежде. Отозвали только посла и еще пятерых-шестерых сотрудников — как высокопоставленных, так и мелкую сошку. С тех пор о них ничего не было слышно, и такт вкупе с хорошими манерами требовали не упоминать больше их имен. В их числе оказался бывший Федин сосед, Смирнов, чье исчезновение Федя воспринял со вздохом облегчения. Очевидно, все отозванные были замешаны в политику, так что им оставалось винить самих себя. Подобно многим другим, они, видимо, переоценили ослабление дисциплины, наступившее после смерти Первого. Федя же никогда не питал по этому поводу иллюзий. Как и все остальные, он не мог не радоваться, что старик наконец-то сошел в могилу, и оценил весь юмор приказа, согласно которому всем работникам дипломатических миссий предписывалось целый год не снимать траур. Безусловно, старик давно уже стал невыносим — капризы, мстительность, безумные выходки… Другое дело, что необходимо было представить его идолом для отсталых масс, которым пока недоставало культуры, чтобы бороться за счастье без водительства обожаемого вождя. Если бы у них не оказалось портретов Первого, которыми они увешали все стены страны, они снова взялись бы за старые иконы, и всему настал бы конец. Потребность поклоняться кому-то или чему-то — наследие темного прошлого: чтобы излечиться от нее, потребуется еще два-три поколения. Кроме того, народная демократия, окруженная внутренними и внешними врагами, неизбежно принимает форму централизованной пирамиды, а у пирамиды обязательно должна быть вершина. Поэтому Отец Народов был необходимостью, а те, за границей, кто вышучивает внешние проявления его культа, не имеют даже отдаленного представления о диалектике истории. Они напоминают дикарей, попавших в оперу и возжелавших расправиться с отрицательным персонажем на сцене, не понимая, что их глазам предстает сплошное притворство, однако притворство это служит высшим целям и поэтому воспринимается культурной публикой всерьез. Как-то раз он попытался объяснить это Хайди, прибегнув к намекам и аллегориям, и, несмотря на искаженное мышление — а каким ему еще было оказаться при таком происхождении и образовании? — она, как будто, поняла, что все не так просто, и что он, Федя, не такой простак, как считает она и ей подобные. Однако все это не отменяло того факта, что Первый был не очень-то доброкачественным идолом, поэтому избавление от него не могло не принести облегчения.
Дураки за границей надеялись, что вместе с верхушкой рассыплется вся пирамида. Это всего лишь доказывало лишний раз, что им недоступна историческая наука, а также не дано различить реакционную тиранию и революционную диктатуру. Смерть реакционного тирана и впрямь приводит к гибели всего режима, как происходит с организмом, лишившимся головы. Однако революционная диктатура скорее напоминает сказочное животное, у которого на месте отрубленной головы мгновенно вырастает новая. Даже Церковь не умирает вместе с папой, хотя при жизни люди целовали носки его туфель, — а ведь Церковь в свое время была воплощением идеологии римского пролетариата и лишь со временем выродилась в инструмент реакции.
И все же последние недели выдались нелегкими, особенно первые две, когда еще не было официально объявлено имя преемника Первого, и приходилось ступать с оглядкой, все время смотря под ноги. Взять хотя бы их последний разговор со Смирновым, когда Смирнов под каким-то предлогом заявился к нему в комнату и после нескольких ничего не значащих замечаний, как ни в чем не бывало, спросил:
«Ты не знаешь часом, когда жил Марий?»
«Марий? Какой Марий?» — не понял Федя.
«Демократический трибун в Риме, начавший гражданскую войну против диктатора Суллы».
«Х-а, этот… Ты что, пишешь историческую статью?»
Вместо ответа Смирнов предложил ему сигарету, и оба полезли за зажигалками, что напомнило Феде о том, как он приобрел французскую зажигалку в тот день, когда Хайди украла у него дневник. Но это была уже старая история, и Федя, всегда готовый оказать услугу, попытался вспомнить хоть что-нибудь о трибуне Марии. Единственной знакомой ему датой в римской истории были годы 73 — 71 до нашей эры — восстание Спартака.
«Подожди-ка, — сказал он. — Когда началась пролетарская революция под водительством Спартака? В 73 году, если мне не изменяет память. Если я знаю хоть что-нибудь о трибуне Марии, так это то, что он жил то ли до, то ли после Спартака и что он вряд ли что-нибудь значит ввиду его буржуазно-либеральной идеологии».
Федя был очень доволен своим ответом, однако Смирнов только усмехнулся в свои черные усы.
«Марий, — произнес он, — был человеком, разрушившим Римскую империю».
Федя еще не знал, к чему клонит Смирнов, но уже чуял недоброе и сожалел, что тому удалось втянуть его в разговор.
«Как же это ему удалось?» — спросил он безразличным тоном.
«Он заменил старую армию, комплектовавшуюся по принципу воинской повинности граждан Рима, наемнической армией».
«Ну и пошел он к черту», — уклончиво отозвался Федя.
«Спустя всего одно поколение после этой перемены, — гнул свое Смирнов, — власть перешла от Сената к армии. Именно армия приводила к власти различных цезарей и управляла ими, как хотела».
Теперь Федя знал, что у Смирнова на уме. Он стоял за партию, против армии, и хотел прощупать Федино отношение. У Феди не было четкого мнения по этому вопросу, хотя именно от того, как он разрешится, зависела преемственность власти; он был не политиком, а всего-навсего человеком Службы, исполняющим свой долг. Однако если проблему преемственности не удастся решить гладко, если дойдет до хладнокровной, скрытой пробы сил за кулисами, то даже подчеркнутый нейтралитет может быть потом поставлен ему в вину. Поэтому он проявил осмотрительность:
«Я слишком мало знаю об истории классовой борьбы в Риме. К счастью, в нашем случае такая опасность не угрожает: ведь и армия, и партия — инструменты в руках народа, хотя, конечно, они поочередно выходят вперед, в зависимости от конкретных требований ситуации».
Ответ сам по себе был правильным, однако именно из-за своей корректной нейтральности он прозвучал как косвенный отказ принять откровенность Смирнова. Массы ожидали некоторого смягчения режима в качестве траурного подарка; в этом у них со Смирновым разногласий не было. Однако Смирнов определенно возлагал надежды на внутреннее омоложение партии — ходили осторожные слухи, подтверждавшие наличие таких настроений, а иностранная пресса полнилась спекуляциями о возможности ограниченной амнистии для оппозиционеров. Федя же, напротив, опираясь скорее на инстинкт, чем на расчет, придерживался мнения, что партия не может позволить себе такого примирительного жеста и ослабления дисциплины, не рискуя при этом запустить фатальный механизм, который приведет к ее уничтожению. Однако требовался хоть какой-то жест, идущий навстречу ожиданиям масс, порожденным смертью старика; раз ситуация не позволяет по-настоящему отпустить вожжи, остается только переложить ответственность за непопулярные меры, а также часть бремени исполнительной власти на армию.
После еще нескольких ничего не значащих фраз, Смирнов ретировался к себе — и с тех пор Федя его больше не видел. История бросила кости, и оба объявили ставки: Смирнов — более высокую, Федя — поскромнее, ибо не собирался играть. Получилось так, что Федя выиграл, а Смирнов проиграл. Если бы кости выпали иначе, Федя оказался бы в проигрыше и принял бы свою судьбу со смирением: будучи обвиненным в планировании установления военной диктатуры, он бы признал свою вину, подчиняясь правилам игры. Лишь люди разлагающейся, обреченной цивилизации воображают, что можно насытить волков, не тронув овец; именно это и обрекает их на гибель. Они живут в Капуе политической распущенности и либерального потакания собственным прихотям; их парламенты — бордели, в которых можно выбрать одну из дюжины фракций, руководствуясь вкусом; их пресса — рассадница ересей и свар. Однако бархатный сезон в Капуе завершился разрушением Карфагена.