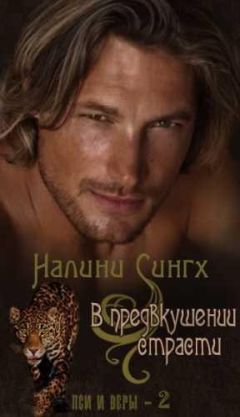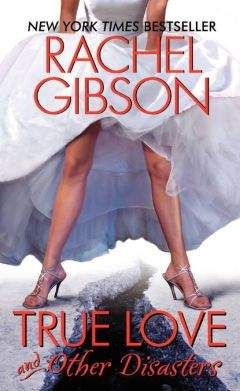— И не может быть расторгнут! — радостно сказал Сакр. — Там так и написано — недействительным договор может быть объявлен только посланником самого… — Сакр показал глазами на небо. — Посланник сей являлся людям последний раз чуть больше тысячи лет назад, если верить вашим толкователям.
— Что-то я не помню такого… — задумчиво сказал Ликургус.
— Посланника?
— Нет, в договоре я такого не помню.
— На, посмотри еще раз.
Ликургус снова развернул парчу.
— Да, действительно…
Эржбета взяла договор у него из рук и тоже перечла, морщась, кусая губы.
— Подожди, подожди, — сказал Ликургус. — Эржбета, дай-ка мне эту писанину… Ага, вот оно… «… Высшей Воли…» Посланцем Высшей Воли… Ого! Посланцем?
— А что? — спросил Сакр.
— Послом.
— Да, возможно. Покажи. Да, правильно, послом.
— Волхвы тебе диктовали…
— Да, как умели.
— А ты исправлял несуразности, — отметил Ликургус. — Они по-гречески говорят сам знаешь, как.
— Ну и что?
— Сакр, греческий язык, известный тебе, родом из Константинополя.
— Да.
— А не из Афин.
— Да.
— И не из Спарты. И даже не из Алеппо.
— Ну и что?
— А то, — сказал Ликургус, — что в Константинополе слова «посол» и «наместник» в некоторых случаях означают одно и то же.
— Да?
Сакр неуверенно взял у Ликургуса парчу и перечел текст.
— Да, ты прав. Но это ничего не меняет.
— Почему ж, — возразил Ликургус. — Еще как меняет. Наместник Высшей Воли сидит за три столика от нас с двумя подозрительными девицами. Не вертите так головами, пожалуйста.
Ликургус поднялся.
— Подожди, не спеши, как же так, нужно подумать, — возразил Сакр.
Эржбета посмотрела на Ликургуса с надеждой.
— Иногда импульсивные решения — самые лучшие, — объяснил Ликургус.
Кроме наблюдательного Ликургуса, никто на площади не узнал бы Бенедикта в подвыпившем купце, одетом пестро и неряшливо, в берете набекрень, с пьяными глазами, даже если бы специально на него посмотрел. Даже не купец — купеческий сын, которому от недавней сделки отца перепали какие-то дукаты.
— А, вот кого не ждали, — сказал Папа Римский, глядя на подошедших к нему Ликургуса, Сакра, и Эржбету. — Какими судьбами! Присаживайтесь, сейчас принесут дополнительные сидения. А то я смотрю, к вам хозяин не подходит, игнорирует. Сидите и ничего не пьете. Здесь отвратительное вино, но оно все равно бодрит и веселит. Присаживайтесь живее, а то сейчас вся площадь нас заметит и захочет поучаствовать.
Он махнул неопределенно рукой, и в ответ на этот жест из таверны тут же выбежал хозяин, волоча два сидения. Поставил молча рядом со столиком Бенедикта, убежал обратно, и сразу вернулся, неся дополнительное.
— Я все сделал, как надо, и, надеюсь, претензий нет, — сказал Бенедикт Ликургусу. — Хронист пишет. Остался ночевать. Вернется завтра.
— Какой хронист? — спросил Ликургус.
— Которого… А! Ты не знаешь? Странные отношения с начальством. Впрочем, наверное это всего лишь каприз, и тебя не посвятили в тайну эту великую.
Он погладил одну из девиц по шее, повернулся к другой, поцеловал ее в ухо — она захихикала, залпом выпила кружку вина, и налила себе еще.
— Нам нужно расторгнуть договор, и сделать это можешь только ты, — быстро сказал Ликургус. — Не обременит ли тебя поход с нами на постоялый двор, где я остановился? Это здесь рядом.
— Обременит! — заявил Бенедикт. — День хороший, сижу на солнце, греюсь. Идти никуда не желаю.
— Это важно, — попытался настоять Ликургус. — Дружественный жест.
— О! Судя по твоему тону, посланец, это личная просьба!
— Да.
— Ишь ты! — восхитился Бенедикт. — А какая таинственность раньше была, какая неприступность! Ничего не скажу, ничего не знаю. И вот, пожалуйста — все мы люди, оказывается.
Перегнувшись через столик («Э, не опрокинь кувшин!» — предупредил Бенедикт), Ликургус сказал что-то на ухо Бенедикту. Тот насупился, соображая.
— А ну, еще раз, — потребовал он.
Ликургус снова зашептал ему в ухо. Бенедикт строго на него посмотрел.
— Суеверия, — проворчал он. — Никак не выбить из вас всех суеверия. Это несерьезно! Расторгнуть, говоришь? Ну так что ж, надо торжественным голосом что-то сказать, или чего? Договоры на словах, не люблю я их. Соблазн великий — обмануть, облапошить.
— Нет, договор письменный.
— А, тогда оно лучше, — важно покачал головой Бенедикт. — Письменный — это удобнее гораздо. Это дисциплинирует. У вас он с собой?
Ликургус повернулся к Сакру. Сакр, чуть помедлив, передал ему парчу. Бенедикт выхватил пьяным жестом парчу из рук Ликургуса.
— Вот это вот, да? «Сим предназначается». Вот объясни мне, посланец, почему все люди говорят, как люди, а как дело доходит до письма, так начинают мысли свои в косички заплетать мелкие, а потом удивляются, почему на косичках узелки появились. «Сим предназначается»! А еще, вот, «в дальнейшем именуемых». Какая дрянь! Не письмо, а дрянь! Проще нужно, доходчивей, по-человечески!
В раздражении он порвал парчу на четыре части, смял их, и всучил оторопевшему Ликургусу.
— Отменяю! — сказал он и икнул. — Волей своею поелику в дальнейшем именуемый отменяет сим предназначенное ко всем чертям, откуда поелику оно и заявилось. Ик. Отнюдь договор более действительным считаться и мыслиться не имеет быть. Сдуру подписавшийся имярек. Всё.
Он размашисто осенил всех троих — Ликургуса, Сакра, Эржбету — крестным знамением.
— Что ты наделал! — сказал Сакр, совершенно потерянный.
— Я сделал то, о чем меня просили, — кривя щеку, ответил Бенедикт. — И в знак благодарности поелику вменяю вам пешешествовать к Святому Марку, вон там, видите, башня торчит. Зайти, выразить благодарность, и так далее. Тогда все это считается поелику действительным. Сим вменяю.
— Э… — сказал Ликургус.
— Никаких «э»! Марш в церкву!
— Да, но…
— Что?
— Дело в том, что… — Ликургус помялся. — Эти двое, что со мной… Они не крещеные.
— А это просто негодяйство, — объявил Бенедикт. — Взрослые ж люди, как вам не стыдно. Сегодня я вас крестить не буду, сегодня у меня отдых, сим утверждаю. Завтра к полудню, перед службой, приходите, святой водой вас побрызгаю, скажу что-нибудь эдакое… торжественное… и будете как люди.
— Да ведь нельзя, — возразил Ликургус. — Некрещеным в церкви…
— То есть как! — возмутился Бенедикт. — Ты, посланник, мне тут своих правил не заводи! Церковь открыта для всех, понял, пьяная рожа? А это он что ж, абар-ибн-чего-то? — Он уставился на Сакра. — Тебе, багдадец, в дальнейшем именуемый, лет сколько? Девяносто наберется?
— Шестьдесят, — возразил Сакр, и повернулся к Ликургусу. — Балаган. Это просто балаган. А копии договора у меня нет.
Ликургус улыбнулся.
— Идем в церковь, — сказал он. — На исповедь.
— Какую исповедь? — испугался Сакр.
— Не переживай.
— Не надо исповеди, — благодушно махнул рукой Бенедикт. — Все ваши грязные тайны… только в соблазн вводить священника… Он будет потом неделю мучиться, и ведь нарушит все-таки тайну, расскажет всему свету о том, что вы натворили втроем за последнюю четверть века. Пойдут пересуды, сплетни всякие, в дальнейшем именуемые. Сим повелеваю вам идти прямо сейчас. А то мои девицы заскучали, на лысину багдадца глядя.
— Я не багдадец, — сказал Сакр.
— Не могу ж я при народе объявить, что ты сарацин, тебя убьют, — объяснил Бенедикт.
— И не сарацин.
— Несерьезно, — отрезал Бенедикт. — Идите, идите. Поелику.
Ликургус встал. Поднялись Сакр и Эржбета.
— Да, ты вот, — сказал Бенедикт, обращаясь к Эржбете. — Дочь твоя… впрочем, ладно.
— Что? — насторожилась Эржбета.
— Ты с нею строга была давеча, когда мы ехали в город сей, — сказал Бенедикт. — Дай девушке отдохнуть. Это я не повелеваю засим, а просто прошу. Ну чего ты на нее насела, отчитываешь все время, наставляешь! Хорошая девушка, глаза ясные, любит мужчин. Ты тоже любишь мужчин, только не признаёшься в этом никому. А скрытность — то же, что кокетство. И невежливо это. Подошла вот сейчас, а даже не поздоровалась.
— Здравствуй, — сказала Эржбета.
— Здравствуй, здравствуй.
Бенедикт отвернулся, некоторое время смотрел на пухлую шею девицы справа, прицелился, и приник к шее губами.
Когда они дошли до середины площади, Эржбета вдруг сказала Ликургусу и Сакру:
— Подождите, я сейчас.
И быстрым шагом вернулась к столику Бенедикта.
— Опять ты, — сказал Бенедикт.
Она присела на корточки возле него. Бенедикт недовольно поморщился.
— Не привлекай внимание, — посоветовал он тихо.
Она взяла его руку и поцеловала.
— Встань, встань, — сказал он тихо и трезво по-гречески. — У меня к тебе просьба.