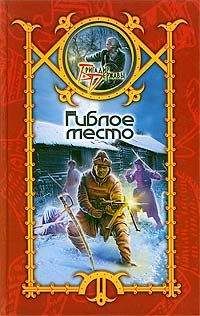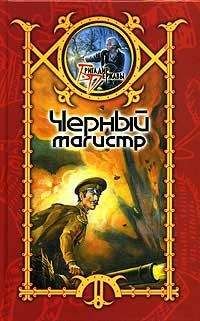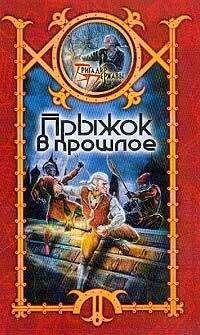— Ага, — ответил он.
— А ну, свистни.
Парнишка засунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. Тут же послышался топот копыт, и во двор въехала наша конница.
— Еще свистни, — попросил я.
Отрок восхищенно покрутил головой и снова свистнул. На задах усадьбы послышался шум, и пехота во всем блеске предстала перед потрясенными зрителями.
— Так говоришь, ты московский дворянин? — спросил я Захарьина. — Сейчас проверим. Ермолушка, — обратился я к верному клеврету Захарьина, — а не поставишь ли ты своего благодетеля на батоги?
— Ага! — заулыбался Ермола.
— А вот и поставь, а мы посмотрим.
— Я счас принесу! — сорвался с места Ермола.
— Вы не посмеете! — забормотал Захарьин, отлично понимая, что очень мы даже посмеем. — Я московский дворянин!
— А вот правку сделаем и увидим, дворянин ты или беглый холоп, — хладнокровно сказал Кузьма.
Народный герой нравился мне все больше и больше. В нем начинала проявляться лихость и раскованность артистичной натуры.
— Хочешь без батогов? — спросил я Захарьина. Он с надеждой посмотрел на меня.
— Скажи, кто такой Константин Иванович?
— Не ведаю, — потухая, ответил толстяк. — У нас таких нет.
— Ну, как знаешь, — не стал настаивать я. — Ребята, кладите его на лавку!
— Не подходите! — беспомощно закричал московский дворянин, но его собственные холопы кинулись помогать нашим людям, сдирать со своего барина одежду.
Раздетого догола помещика прижали к скамье, на которой он недавно сидел, потчуя гостей. Ермола радостно заржал, со свистом рассекая воздух толстым ореховым прутом.
— Сколь батогов ставить, боярин? — спросил он, предвкушая наслаждение чужой болью.
— Сколько мне дал, столько и ему.
— А я уже запамятовал. Ты сам скажи, когда будет довольно. Держи его, ребята! — приказал он добровольным помощникам.
Захарьина припечатали к скамье, а Ермола изо всей силы, с оттяжкой, ударил своего благодетеля. Я отвернулся, чтобы не видеть результатов порки.
Гаврила Васильевич буквально взвыл высоким, почти женским голосом.
— Так кто такой Константин Иванович? — повторил вопрос Кузьма.
— Не ведаю, пощадите!
Опять засвистела палка. Захарьин снова закричал, но на самой высокой ноте оборвал крик.
— Никак помер, — сказал кто-то из зрителей, и все невольно сделали шаг назад. Завыла дурным голосом крашеная Устинья.
Я подошел и послушал на горле пульс. Гаврила Васильевич и вправду был мертв.
— Это Ермолка виноват, — крикнул кто-то в толпе. Он барина погубил. Ему батогов!
Садист растеряно огляделся на сторонам, но встретил только злые, враждебные взгляда. Сообразив, что надвигается самосуд, он собрался схитрить.
— Уйди, порешу! — заревел он и попытался вырваться из кольца зрителей.
В разные стороны полетели отброшенные его могучими руками люди, пока на пути его не встал наш Ефим. Лицо у него горело вожделенным желанием подраться.
— Шалишь, — громко сказал он и сграбастал Ермолу за грудки.
Экзекутор попытался сбить нежданного противника с ног, но тут коса нашла на камень, и камень оказался крепче. Здоровяки сцепились и начали лупцевать друг друга. Про мертвого барина все тут же забыли и принялись подбадривать бойцов.
Униженный мной Ефим всеми силами старался реабилитироваться за прошлое поражение и лупцевал Ермолу насмерть. Тот стоически терпел тяжелые удары, но ответить равными не смог и вскоре был сбит с ног и прижат к земле.
— Вяжи его, ребята, — прохрипел счастливый победитель.
Толпа бросилась на побежденного. С палача сорвали одежду. Весь двор ликовал. Мычащего, еще пытающегося сопротивляться Ермолу подтащили к скамье, на которой лежал умерший барин.
— Барина в дом несите! — закричала осиротевшая Устинья. — Осторожнее!
Однако народу было не до нежностей. Захарьина схватили за руки и за ноги и бегом отволокли в дом, чтобы освободить место следующей жертве.
— Кто править будет? — спросил Ефим, чувствуя себя победителем.
— Можно я, — попросил, выступая вперед, невзрачный мужичонка с клочковатой бородой. — Ермолушка моего сыночка до смерти забил, пусть теперь сам такую же сладость попробует.
— Ну, если так, давай, — вынуждено согласился я. Крестьянин низко поклонился сначала нам с Мининым, потом остальным:
— Простите меня, люди добрые.
За что его прощать, пока было непонятно. Ермолу между тем уже уложили на скамью и крепко держали за голову и ноги.
Крестьянин перекрестился, взял в руку батог и, не очень даже замахиваясь, опустил палку на спину убийце сына. Несколько мгновений было тихо, потом раздался рев, полный звериной тоски и смертной муки.
Я невольно взглянул на спину палача. Его красивое, сильное тело перечеркнула кровавая рана. Крестьянин, словно торопясь, чтобы его не лишили выстраданной мести, вновь взмахнул батогом…
С Ермолой нужно было кончать по любому. Слишком большое удовольствие получал он от человеческих мучений, чтобы его носила земля. Теперь же он находился в надежных руках.
Чтобы не видеть кровавого зрелища, я вскочил в седло и выехал со двора.
Мне еще нужно было встретиться с Ульяниным дядькой Гривовым, отблагодарить его за помощь и попросить проводить во владения старого Лешего.
Деревню Коровино при дневном свете я видел впервые. Она оказалась похожей на тысячи себе подобных нищих русских деревень. Длинная улица, вдоль которой стояли избы, была грязна и пуста. Крестьяне еще не вернулись с полей. Из помещичьей усадьбы продолжали слышаться надрывные крики.
Я остановился около избы, возле которой сидел на завалинке старик.
— Дедушка, — спросил я его, — не знаешь, Гривов в избе или в поле?
— Дома, сынок, — ответил он, пытаясь рассмотреть меня слепыми глазами. — Куда ж он, хворый, денется. Дома должен быть, если только не помер.
Я разом забыл про несчастного Ермолу и пришпорил коня. Изба Гривова была в конце деревни. Донец взял в галоп, и через две минуты я остановил его у знакомого крыльца.
В избе стоял тяжелый дух. Я закрыл глаза, привыкая к полумраку, и услышал знакомый голос:
— Кого Бог несет?
— Здравствуй, дядька Гривов, — шутливо сказал я, подумав, что до сих пор даже не удосужился узнать его имени.
— Ты, что ли, батюшка? — откликнулся он. — Прости, плох глазами стал, не признал.
Я подошел к лавке, на которой лежал мужик. Глаза, привыкая к полумраку, постепенно начали различаться предметы, но пока без деталей.
— Болеешь? — задал я никчемный вопрос.
— Не то, что болею, помирать собираюсь, — грустно пошутил мужик. — Как там моя Ульянка?