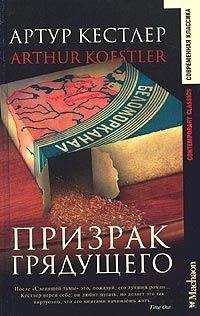— Думаю, — произнес он с примирительной улыбкой, — профессор Понтье внес полную ясность в ситуацию, и на теперешнем этапе к этому вряд ли можно что-либо добавить. Прошу извинить меня, господа…
Жюльен вежливо проводил его до двери. Выйдя в коридор, мсье Турэн внезапно смутился.
— Если совсем откровенно, mon cher, — объяснил он извиняющимся тоном, — когда вы позвонили мне, у меня сложилось ошибочное впечатление, что речь пойдет о каком-нибудь издательском проекте — литературном журнале или о чем-то еще в этом роде. Если у вас есть какие-нибудь планы в этом направлении, звоните мне не колеблясь. Пока же, если позволите, я дам вам дружеский совет: не поддавайтесь мрачному пессимизму. Культ обреченности — плачевный симптом нашего времени. — Крепко зажав под мышкой противорадиационный зонтик, он помахал Жюльену ручкой и стал осторожно спускаться по скрипучим ступенькам.
Закрыв входную дверь, Жюльен обнаружил, что литератор, не сказавший за все время ни одного слова, тоже собрался уходить. Это был невысокий пожилой господин в элегантном костюме и старомодных гетрах.
— Сожалею, — молвил он, — видимо, я неверно понял цель собрания. Если здесь образуется какой-то комитет, прошу вас не вписывать в него моего имени. — Поколебавшись, он все же добавил, забирая шляпу и перчатки: — Во всяком случае, не на данной стадии. Посмотрим, кто еще в него войдет. Не будете ли вы так добры направить мне список спонсоров, почетных членов и так далее…
Вернувшись в кабинет, Жюльен застал там изрядно разрядившуюся атмосферу. Понтье и Дюпремон затеяли спор, отец Милле погрузился в беседу с Леонтьевым. Один лишь Борис, устроившийся на подоконнике, разглядывал улицу в полнейшей апатии. За целый час, минувший с момента его появления, он не изменил позы ни на миллиметр.
Отец Милле встретил Жюльена недоуменным взглядом.
— Чего ради было приглашать на такое собрание этих людей? — поинтересовался он.
Жюльен пожал плечами.
— Я никогда не питал к ним симпатии, вот и подумал, не пригласить ли их. Искупление за гордыню ума, говоря вашим языком… — Он запрыгал к своему излюбленному местечку в углу комнаты и с облегчением оперся о книжный шкаф. — Не знаю, понимает ли хоть кто-нибудь, зачем я созвал это идиотское собрание. Наверное, это попытка облегчить совесть. В предыдущих войнах интеллигенция оказывалась такой жалкой и презренной! Я всегда считал, что для нас худший грех — совершить оплошность. Опять-таки, пользуясь вашим языком.
Полюбовавшись, как Жюльен трется позвоночником о шкаф, подобно зверю, страдающему от чесотки, отец Милле вполголоса сказал:
— Не означает ли это, что вы созрели для того, чтобы всерьез перейти на наш язык? — Он сдобрил свой вопрос доброй порцией раблезианского смеха, но глаза его смотрели все так же проницательно.
— Я проглотил бы непорочное зачатие и все остальные догмы, как блюдо с устрицами, если бы вы знали, как быть со стиральной машиной. Но, да благословит Господь ваше невинное сердце, вы знаете не больше, чем Турэн…
Жюльен и отец Милле были однокашниками, и их все еще связывали воспоминания о былой тесной дружбе. Отец Милле собрался было ответить, когда Борис внезапно соскочил с подоконника, как ожившая статуя. Выпрямившись во весь свой сухопарый рост, он простер руку в сторону Понтье в осуждающем жесте. Все затаили дыхание.
— Почему вы не избавитесь и от него? — пронзительно выкрикнул Борис. — Он предатель!
Жюльен запрыгал к нему, надеясь успокоить. Понтье резко встал, возмущенно подыскивая слова. Остальные трое присутствующих хранили молчание.
— Не обращайте внимания, профессор, — заторопился Жюльен. — Мой друг очень возбудим: опыт пребывания в гуще свободолюбивого народа и так далее…
Понтье по-прежнему беззвучно открывал рот; его голова дрожала. Отец Милле и Дюпремон шептали ему примирительные слова. Однако Борис расслышал их негромкие голоса и прокричал еще более пронзительно:
— Он предатель!
После этого он посмотрел на Понтье в упор и неожиданно спокойно проговорил:
— Вы предатель, хотя сами и не подозреваете об этом. Уходите отсюда.
В комнате вновь зазвучали примирительные голоса; даже Леонтьев, казалось, очнулся от своих дум и с любопытством воззрился на соседей. Понтье наконец-то набрал в легкие достаточно воздуху.
— Как вы смеете, мсье! — повторил он несколько раз, причем с нарастающим чувством собственного достоинства. Казалось, еще немного — и он швырнет обидчику свою визитную карточку и вызовет его на дуэль в Булонском лесу. Такая возможность и впрямь пришла ему в голову, вместе со всеми мыслимыми последствиями: грандиозной рекламой неонигилистскому движению и изысканной статейкой, оправдывающей возрождение древнего рыцарского обычая, который, пусть с оговорками, можно рассматривать как символ неизбежного появления индивидуалистской антитезы коллективистским тенденциям в обществе.
Он уже предвкушал удовольствие, как вдруг вспомнил, что не захватил с собой визитной карточки; без карточки же или хотя бы перчатки, которую можно было бы бросить в лицо сопернику, красивый жест будет выглядеть не слишком убедительно.
— Боюсь, если ваш друг не извинится, то одному из нас придется покинуть собрание, — сказал он Жюльену, чувствуя, что у него снова начинает дрожать голова. Жюльен кивнул и сказал:
— Да, и я боюсь, что так будет лучше всего. — Но вместо того, чтобы выпроводить Бориса, Жюльен, бросая Понтье новое оскорбление, спокойно присовокупил: — Пойдемте, я вас провожу. Я вам все объясню.
В кабинете снова повисла тишина. Чувствуя на себе взгляды всех присутствующих, Понтье опять стал задыхаться. Потом голосом, которому полагалось выражать благородное самообладание, но в котором на самом деле прозвучала всего лишь мальчишеская бравада, он выкрикнул:
— Спасибо, я сам найду выход!
Выглядел он довольно жалко. Жюльен заковылял за ним и, глядя как Понтье забирает свою одежду, с кривой усмешкой произнес:
— Кажется, вечер оказался не очень-то успешным.
Понтье ожидал извинений, но Жюльен всего лишь открыл ему дверь в притворном удручении.
— Позвольте указать вам, — сказал Понтье, — что я нахожу ваше поведение воистину непростительным. — Он все еще ждал разъяснений, униженно застыв в дверях. Жюльену пришлось сделать над собой усилие.
— Конечно, — утомленно произнес он, — поскольку оскорбление нанес Борис, то я должен был попросить удалиться именно его. Но, как я сказал, он слишком много перенес…
— Это не извиняет его поступка. Как и вашего, — заметил Понтье, все еще стоя в дверях с трясущейся головой.
— В данном случае — извиняет, — сказал Жюльен более твердо.
— Даже то, что он назвал меня предателем? — воскликнул Понтье раздраженным голосом недоросля, которому никогда не суждено повзрослеть.
— Он сказал, что вы предатель, хотя сами этого не сознаете… — Жюльен не стал продолжать. Но, несмотря на его молчание и выразительную позу у распахнутой двери, Понтье никак не мог заставить себя уйти.
— И какой же принцип или ценность я предал? — осведомился он все тем же раздраженным голоском.
— Господи! — не выдержал Жюльен. — Я вам не судья и не исповедник.
— Но это… это же неслыханно! — взмолился Понтье. Казалось, он вот-вот разрыдается. Жюльен знал, что стоит позвать его назад, и он охотно вернется, забыв про оскорбления. Он тоже искал алиби перед собственной совестью, пока трубы Судного дня не призвали его к ответу. Но если позволить ему возвратиться, он примется за старое и заговорит в прежнем тоне. Жюльену пришло в голову, что Понтье страдает своеобразной, но довольно распространенной формой помешательства.
— Лучше уж идите, профессор, — мягко произнес он и захлопнул дверь у него перед носом.
Войдя в кабинет, Жюльен застал Дюпремона и отца Милле погруженными в негромкую беседу. Борис нетерпеливо расхаживал взад-вперед.
— Вот и ты! — вскричал Борис. — Теперь, когда ты выставил этого предателя, мы можем вернуться к делу.
— Валяй! — безрадостно буркнул Жюльен. Борис тоже походил на безумца, только страдающего иной манией. Остальные трое гостей взирали на него с любопытством.
— Теперь всем должно быть ясно, — начал Борис, все так же меряя комнату шагами, — что всех нас облапошили и заставили уверовать, что Он — обычный человек, теперь же мы, наконец, открыли для себя очевидную истину, что Он — Антихрист. Не знаю, как можно было столь долго оставаться слепцами. Конечно, нас специально заставляли думать, что враг — это страна, партия или что-нибудь еще. Но следовало давным-давно понять, что ни одна страна или партия не способна на то, что вытворяет этот враг… Да, да… — Он отмел нетерпеливым жестом воображаемые возражения и улыбнулся отцу Милле, остановившись перед ним. — Да, ваши инквизиторы делали в свое время большие гадости, но все они — детские игры по сравнению с этим. Возможно, то была репетиция… — Он умолк, пораженный этой мыслью, пришедшейся ему по вкусу. — Да, наверное, это и была репетиция! — торжественно произнес он. — Но на этот раз с репетициями покончено, теперь Он дает собственно представление. Женщин и детей угоняют в пустыню и обрекают на смерть. Мужчин увозят в заполярную ночь, где они через короткое время превращаются в зверей. Других подвергают пыткам, впрыскивают им в вены отраву, чтобы они засвидетельствовали Его триумф. Сыновей учат выдавать отцов, солдат — изменять своей стране, идеалистов — служить Ему в героическом самоотречении. Мы-то полагали, что это просто массовое помешательство, тогда как на самом деле речь идет о волшебстве. Даже слова начинают значить нечто противоположное их кажущемуся смыслу; даже их заставляют стоять на голове, подобно чертям на Черной мессе.