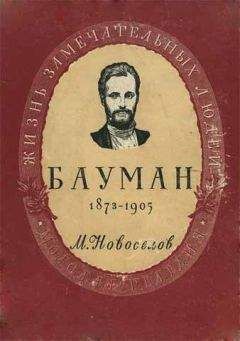Остановился. И всё. Больше ничего не произошло — ни с ним, ни вокруг. Как и секундою раньше, бежали носильщики, таща багаж, целовались приехавшие с встречавшими, жандарм рвал ухо попавшемуся карманному воришке, ведя его в контору, солдаты, отдавая честь, становились во фронт ковылявшему сизоносому генералу в сером с красными отворотами пальто.
Все — самое обыкновенное, как было. Ни с инспектором, ни с кем другим ничего!
Рыжий обернулся негодуя. Обернулся и остолбенел: высокого проезжего с чемоданами — не было.
— Где?..
Осмотрелись. В самом деле, даже следа нет. Нигде нет. Платформу видно далеко-далеко. Он-приметный: сразу же видно было бы, если бы где-нибудь он бежал. Только вор может полезть с чемоданами под вагон. А в вагон никак не успел бы зайти — ведь всего секунда прошла какая-нибудь… Ну, минутка, не больше… А у ступеней — толчея: выходят еще пассажиры и лезут новые… Да и билет… Он же при них отдал кондуктору: виленский был билет, все видели, а без билета не выедешь…
— Ищи! — крикнул белобрысый.
Мальчики рассыпались по платформе кто куда: к кассам, в буфет, вдоль поезда, заглядывая под вагоны. И опять собрались вместе, в кучку, к рыжему.
— Нет нигде!
— Вот какой! Ведь только-только отвернулись, а он уже — хоп!
— Смотрите — инспектор…
В самом деле, к ним, задыхаясь от быстрого бега, подошел инспектор. У него был растерянный вид. От прежней солидности и следа не осталось, фуражка сбилась на ухо, и он вообще не похож уже был на инспектора. Он остановился перед белобрысым и спросил хрипловатым и дрожащим, тоже совсем не инспекторским голоском:
— Где тот… с чемоданами… что с вами шел?
Белобрысый уже раскрыл было с полной готовностью рот, но рыжий не дал ответить. Он выдвинулся, нахлобучив фуражку на нахмуренные, сдвинутые брови, глубоко засунув руки в карманы своего серого форменного пальто.
— Он пьет чай в буфете, — сказал он отрывисто, многозначительно подмигнув. — Если, впрочем, не кончил… Его встретила дама в белой шляпке, меховой, с густой вуалью.
— С вуалью, дама? — переспросил инспектор, и глаза его стали радостными и жадными. — Где? Я не видел.
— Она стояла вон там, — показал рыжий на двери в буфет первого класса. — Я сразу обратил внимание. потому что у нее лицо было как в маске — такая была на ней густая вуаль. Он подошел, она приподняла вуаль, и они вошли вместе.
Инспектор не дослушал-он быстро зашагал к дверям. Мальчики молча смотрели вслед. Рыжий презрительно толкнул плечом белобрысого:
— А ты… хорош! Чуть было не распустил язык… Сразу же видно — шпион. Он его ловил.
Полнощекий спросил потупясь:
— Ты думаешь, он — как Дубровский или как те, что царя убили?
— Молчи! — прошипел рыжий. — За такие слова знаешь что…
— Пойдемте! — заторопился белобрысый. — Он же увидит в буфете, что никого нет и значит Вася налгал. Нас всех заберут тогда в тюрьму.
— Ты трус и дурак, — скривился брезгливо рыжий. — Почем он может знать, был он там или нет? И даже если… Как он докажет, что я ему говорил?.. Мы же все скажем вместе, что он врет и мы его в глаза не видали. Нас тут пятнадцать-разве нас можно переспорить!
— Это верно. Он не докажет.
— А уходить нельзя, — продолжал рыжий. — Я все-таки думаю, что он в поезде: больше ему некуда было спрятаться. И этот, в фуражке, пожалуй, опять попробует за ним увязаться. Мы не должны его пустить.
Белобрысый покачал головой и оглянулся на вокзал опасливо:
— Легко сказать-не пустить! Не будешь же ты с ним драться.
— Буду! — топнул ногою рыжий. — Если придется… Потому что я тоже придумал фокус, ребята. Слушайте!
Гимназисты сбилось в кучу, и рыжий сказал шепотом, осматриваясь, не слушает ли кто посторонний:
— Если он сунется к вагонам, я крикну: «Вор!» — и все вы бросайтесь к нему, окружите, кричите… Володя, возьми на всякий случай мой кошелек… Я буду доказывать, что он украл у меня все деньги, какие были.
— Ну кто поверит?.. У него ж, наверно, бумага есть от полиции. Он докажет.
— Пока будет доказывать, поезд уйдет. Уже второй звонок был… Вот-третий… Следите: не идет?
Инспектор не вышел. Гимназисты жадно заглядывали в мелькавшие мимо них всё скорее и скорее окна вагонов: не покажется ли в котором-нибудь молодое бородатое, ясноглазое, смеющееся лицо…
Но Василий, конечно, не показался. Он лежал на багажной полке в третьем ярусе, глубоко закатившись, так что увидеть его можно было, только поднявшись на вторую полку. И даже чемоданы, выставленные ребром, с налепленными на них безобразными, грязными бумажными наклейками, которых не было до Вильны, никто, самый зоркий инспектор, не признал бы за те, что поймал в потайной фотографический аппарат свой на виленской платформе «инспектор».
Второй билет-до Москвы-пригодился, иначе б в вагон не пройти: при входе проверка особо строгая. А теперь можно спать спокойно до самой белокаменной: так зовут Москву коренные москвичи, гордые своим городом.
Глава VII
МЕДВЕДЬ В САРАФАНЕ
Пассажирский разговор в местном, пригородном поезде за Москвою был поэтому особенным: о чем ни заговорят, о чем ни заспорят-через несколько слов обязательно скажет каждый гордо:
— А у нас в Москве…
И какой бы ни был яростный спор, все кивнут, улыбнутся и сразу станут друзьями: все ж свои люди-москвичи.
Все ли?
Спорят-то не все: кое-кто и помалкивает. Вот, к примеру, тот, ясноглазый, высокий, с бородкой; ежели присмотреться хорошенечко, отметинка-шрам на носу. Этот рта не раскрыл, даже когда завязался самый горячий разговор по поводу бумажек, найденных на лавках в вагоне.
Бумажки были печатные, но явно секретные, подметные, потому что на них не было, как полагается на каждом объявлении, печатного разрешения полиции. Да и говорилось в них о том, как рабочие Обуховского казенного завода в Питере в прошлом году весною проводили забастовку, прогнали камнями полицию и оказали войскам сопротивление. И хотя войска в конце концов одолели, и участников выступления царское правительство отдало под суд, но события обуховские доказали, что с царской опричниной можно с успехом померяться силой даже в открытом бою; рабочая партия призывает поэтому рабочих во всех случаях стойко стоять за свои права, по примеру обуховцев.
По верхнему краю листка напечатано было курсивом:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
а в конце стояла подпись:
МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
Из-за подписи главным образом и шел спор. Что такое пролетарий и социал-демократ-никто из споривших объяснить толком не мог. Но листок все-таки явно был крамольным, и потому в подлинность подписи на нем никто не хотел верить. Ну, в Питере фабричные бунтуют — это куда ни шло, — но чтобы у нас, в Москве… Недаром в ней церквей сорок сороков. О крамоле здесь не слыхать: ни в городе самом, ни в подмосковном районе текстильном, сквозь который тянется сейчас потихонечку поезд. Была, правда, на Морозовской мануфактуре стачка, да ка-акая… но было это в 1885 году, а нынче- 1902 год, январь.