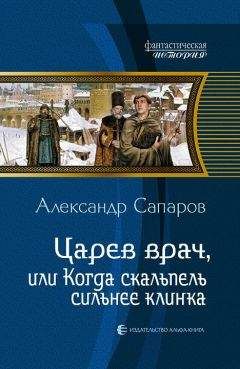Сам руководитель всего этого бардака сидел в отдельной мастерской. У него все было завалено чертежами, рисунками линз. После того как я попытался преподать ему те небольшие знания оптики, которые остались в моей голове, этот неугомонный фанатик, похоже, сумел узнать больше меня.
Он с гордостью показал мне несколько больших кусков прозрачного стекла, сваренного по его заказу.
Я смотрел на чертежи, линзы, куски стекла и думал, что у меня уже многое выходит из-под контроля, и в один прекрасный день я приду, а мне покажут настоящий телескоп. Но пока у Кузьмы была в работе одна подзорная труба, естественно, для Иоанна Васильевича. Не мог же царь отобрать насовсем подарок, врученный его собственному сыну.
Я посмотрел пару линз на свет и подумал, что по сравнению с первыми страшноватыми изделиями эти очень похожи на линзы моего времени.
Хлопнув себя по лбу, Кузьма вытащил откуда-то еще не доделанный микроскоп и показал, как работает его столик с укрепленными посредине линзой, конденсором и небольшим круглым полированным бронзовым зеркальцем, направляющим в него солнечный свет. Свет, конечно, был так себе, все-таки полированная бронза – это не настоящее зеркало. Но все равно получилось здорово.
– Сергий Аникитович, – сообщил мне мастер, – вы не беспокойтесь, я тут уже столько нового про эти линзы узнал! Через месяц доведу ваш микроскоп до ума.
– Кузьма, я-то пришел вот с этим, чтобы ты или твои помощники сделали пару вот таких штук. – И я дал ему чертеж керосиновой лампы.
К чести мастера, тот сразу понял, что это такое.
– Понятно, светильник это будет, ничего тут интересного нет, из меди выколотим две половинки да спаяем. Сергий Аникитович, так зачем он нужен, свечи и то лучше, а тут столько вони да копоти наделаем!
– Ты, Кузьма, дело вначале сделай, а потом я тебе все растолкую, сам увидишь, что получится.
Обратно я шел в отличном настроении. Мои мечты о бактериологической лаборатории, где я смогу заниматься тем, чем никогда не занимался и даже не думал об этом – вакцинами, – начинали сбываться.
Сейчас я находился в другом теле, и все мои прививки из другого времени отсутствовали. Единственное, что мне было досконально известно, что в эпидемию чумы, которая прокатилась по Руси несколько лет назад, я выжил, и теперь у меня стойкий иммунитет к этой болезни. А сколько болезней сейчас бродит по земле? От оспы до холеры. Что там грипп? Его и за болезнь пока не считают. Дизентерия, глисты, паразиты. Сколько на бедном человеке, оказывается, всего живет и процветает. Зарезали кабанчика и приготовили, и все, кто ел, благополучно померли от трихинеллеза. Или точно так же медвежатинки съели, и туда же, вслед за любителями свинины. А был бы на торге всего один специалист с микроскопом, и проблема была бы решена. Осмотрел мясо, поставил печать, и можно продавать. А за печать денежка, как в наше бинзесовское время, как выговаривал это слово один из моих знакомых в малиновом пиджаке.
Ну ладно, если начинать, то, как доктор Дженнер, искать коров с коровьей оспой, ловить мальчишек-сирот и на них прививать. А выживет, не выживет – кто угадает. Потом, как мне поддерживать вирус в культуре? Нет у меня ни термостатов, ни куриных эмбрионов в избытке. Все придется искать самому. Но кто ничего не делает, тот ничего и не добьется. Мне казалось, что государю должна понравиться идея прививок от оспы, какой бы странной она ни показалась. Но согласие государя – еще не все. Нужно было добиться, чтобы с согласия церкви, с ее благословения начались массовые вакцинации. А то разбушевавшиеся народные массы запросто вздернут на веревку наивного медика, попытавшегося обогнать свое время, и не исключено, что еще помучают перед смертью. И опять передо мной стоял вопрос каучука: мне нужны были резиновые перчатки, без них моя хирургическая сущность просто внутренне не принимала возможности работы с инфекционным материалом. А вскрытие! Сколько патологоанатомов в свое время закончили свою жизнь, нечаянно поранившись во время вскрытия или не соблюдя принципов антисептики!
Поэтому у меня в вотчинах десятки детей вместо того, чтобы помогать своим родителям, ежедневно устремлялись в поля и выкапывали корни одуванчиков. Хотя, может, это в каком-то роде и была помощь, потому что одуванчики являлись одним из самых быстро растущих сорняков. В каждом селе был устроен приемный пункт, куда сносили все корни, там их взвешивали и расплачивались с детьми. Никто это серьезной работой не считал, поэтому те совершенно незначительные суммы, которые дети получали, воспринимались как бы свалившимися с неба. Те, кто работал на приемном пункте, получали побольше, в их задачу входило отмывание корешков от грязи, размалывание их на мельнице (их у меня было целых три), потом заливание водой.
Весь млечный сок, который собирался на поверхности, осторожно снимался, высушивался и готовился к отправке в Москву. А я думал, что неплохо будет, если крестьяне смогут заготавливать в год хотя бы несколько килограмм такого каучука-сырца. Наверное, стоило ввести такое количество корней одуванчиков в состав ежегодного оброка. На мои пока довольно скромные потребности этого каучука должно было хватить. Опыты с его вулканизацией я оставил на осеннее время.
Мои радужные размышления о прекрасном будущем внезапно закончились. Я столкнулся с Хворостининым, который с усмешкой смотрел на меня сверху вниз.
– И это воин, – с легким презрением в голосе заметил он. – Идет, не видит ничего, делайте со мной, что хотите.
– Дмитрий Иванович, так я вроде у себя дома, кого мне опасаться?
– Вот те, которые не опасались, уже в сырой землице лежат. Ладно, давай собирайся, поедем мы сейчас кое-куда здесь, в Москве. Ну что смотришь, мать твоя отходит, тебя перед смертью увидеть хочет, каким ее сын вырос. Обрадуем.
После моих приказаний во дворе начался переполох. Выскочила Ирка и пригласила князя в дом. Она женским чутьем понимала, что в наших отношениях с Хворостининым не все так просто, а может, она все отлично знала, жизнь во дворце учит быстро.
Откуда-то появился Кошкаров. Он, увидев своего товарища и бывшего начальника, расцвел, и они крепко обнялись, как будто не виделись годы.
Через полтора часа наша кавалькада мчалась по московским улочкам, заставляя прохожих жаться к обочине.
Настроение было не очень, Дмитрий Иванович сам выглядел угрюмым и неразговорчивым.
Тяжелые ворота, в которые мы долго стучали, так и не открылись. Только сбоку из небольшого проема отворившейся двери вышла монахиня и предложила мне пройти внутрь. Рванувшегося вслед за мной Хворостинина она остановила одним движением руки. Я долго шел за монашкой по темным переходам между палатами. Проходили мимо то и дело встречавшихся монахинь в темных одеяниях. Потом зашли в узкую келью, освещавшуюся тусклым светом, льющимся из узкого же окошка. На топчане, укрытая покрывалом, лежала истощенная женщина средних лет. На ее худом лице глаза казались огромными.