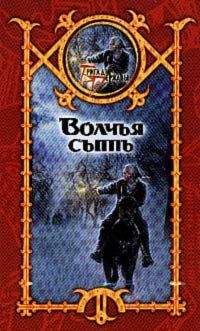Порадовав меня заманчивыми перспективами обогащения на червонец, он молниеносно испарился, проскальзывая к выходу между широкими спинами и солидными животами устремившихся в столовую гостей.
В главной обеденной зале собралось все наличное светское общество. Василий Иванович уже расположился в своем кресле во главе стола и с ласковой улыбкой наблюдал, как гости занимают места. Сидели здесь по чинам, но без обычной жесткой регламентации.
Отставной коллежский регистратор с тридцатью душами крестьян вполне мог оказаться между отставными премьер-майором и надворным советником, владельцами сотни-другой крепостных. Мог, но обычно, зная свое место, предпочитал сидеть со своей ровней в конце стола. Впрочем, место за столом большого значения не имело. У Трегубова царила демократия — незначительных гостей вкусными кушаньями и напитками слуги не обносили.
Нас с Алей, как близких друзей, почти насильно усадили вблизи хозяина. Моя новоявленная светская львица надела самое роскошное платье генеральши Анны Сергеевны, подаренное той Але после решения мной профилактическими средствами ее сексуальных проблем.
Выглядела Аля, как говорится, «зашибись» и по модности одежды опережала местных дворянок лет на пять-десять. В этой глубокой провинции дамы еще носили одежду «времен Очакова и покоренья Крыма», а не последней турецкой войны, как Аля.
Я уже привык к шумным многолюдным застольям, многочисленным сменам блюд и подумал, что, когда я вернусь домой, есть в одиночестве на своей московской кухне покупные пельмени мне будет печально.
— А что такое «покупные пельмени»? — спросила на ухо Аля, подслушав мою мысль.
— Это хороший «Мерседес» для производителя, если ему удастся раскрутить бренд, — популярно объяснил я коммерческое значение изделия из муки и соевого фарша.
Увы, такие шуточки с моей женой больше не проходили. Она состроила мне гримасу и оживленно залопотала со своей соседкой по-французски, при этом хитро поглядывая в мою сторону.
Коварство ее замысла вскоре стало понятно, ее собеседница заинтересовалась тем, что ей говорила Алевтина, и обратилась непосредственно ко мне за какими-то разъяснениями. Причем использовала, увы, французский же диалект. Мне пришлось только с сожалением развести руками. Алину собеседницу такое невежество так удивило, что она разом потеряла ко мне интерес.
— Получил за свой «бред»? — ехидно поинтересовалась моя «деревенская дурочка» на чистом русском языке.
— Один-ноль в твою пользу, — признал я.
— То-то, не будешь впредь надо мной смеяться, — сказала Аля, верно поняв неизвестное ей выражение «бренд».
Пока шла эта семейная пикировка, слуги начали разносить еду. Перед каждой сменой блюда в дверях возникал легендарный повар месье Жан и произносил его название на французском языке. Я не претендую на звание квасного патриота, но не все из того, что приготовил француз, мне безоговорочно понравилось. Некоторым предлагаемым блюдам, на мой взгляд, не хватало нашей российской простоты и масштабности. Но, в основном, изысканность еды впечатляла. Хотя каждый день питаться жульенами и трюфелями я бы не хотел. Селедочка, сбрызнутая уксусом, под колечками репчатого лука, с разварной картошечкой, да под хорошую водочку! Что еще нужно русскому человеку!
Судя по реакции ближних от меня гостей, таких патриотов здесь собралось немало. Уписывая за обе щеки французские деликатесы, они успевали сетовать об «упущенных возможностях» в виде бараньего бока с гречневой кашей и расстегайчиков с осетриной.
— Француз, он что! Он существо субтильное, — заговорил помещик Потапов, напоминающий обликом своего лесного тезку Михаила Потапыча. — Поглядите на этого месье Жака. Разве это повар — одна только видимость. Вот у меня повар, так это повар, поверите, боком в дверь не проходит, пузо ему мешает, только передом! А уж готовит — пальчики оближешь.
— Не скажите, особливо в качестве трюфелей, кои в нашем отечестве не произрастают, однако аромат имеют способствующий, — перебил Потапова не менее обширный барин, с более, чем у того, мягкими, даже женственными чертами расплывшегося лица.
— Что трюфеля! — вмешался в разговор новый собеседник. — Вы, батюшка, покушайте моей стерляжьей ушицы, никаких заморских блюд не захотите. Это я вам скажу, что-то! Чистый амур!
Услышав про стерляжью уху, я вспомнил анекдот про своего прославленного однофамильца. Как-то Иван Андреевич пришел в гости, но сидел как на иголках — все порывался уйти домой.
— Куда вы так спешите, Иван Андреевич? — поинтересовались удерживающие знаменитого баснописца хозяева.
— Дома меня стерляжья уха ждет, — сознался Крылов.
— У нас поедите, сейчас обед подадут.
Крылов согласился и остался на обед. Только он кончился, как он опять заспешил.
— Иван Андреевич, куда же вы?
— Я уже говорил, меня дома стерляжья уха ждет!
После основной части званого обеда гости на время, для отдохновения разошлись: мужчины — в курительную, дамы — в малую гостиную. В это время слуги сооружали в конце залы импровизированную сцену. Своего театра у Трегубова не было, но оказалось, что в торжественных случаях его дворовые показывают «живые картины».
Меня это развлечение заинтересовало. Когда все было готово, мы всей компанией собрались в зале и сели в расставленные амфитеатром кресла. Сцена была самой простой: сколоченная три на два метра рама, украшенная позолоченной резьбой. Актеры, спрятавшись за занавесом, становились в экзотические позы, и, когда были готовы, штору отдергивали. Они демонстрировали картины из античной мифологии.
Зрелище было прелестное. Мужчины, хохотали, разглядывая припудренных мукой обнаженных нимф, наяд и дриад, а женщины хихикали и тупили глазки при виде коротконогих, мускулистых греческих героев.
Особый ажиотаж вызвала сцена свидания Эрота и Психеи. Психеей оказалась та самая вожделенная Кузьмой Платоновичем Фекла, а Эротом здоровенный голый мужик с мощными, широкими чреслами, украшенными бумажным фиговым листиком, неизвестно зачем приклеенным много выше, чем нужно, почти в середине живота.
То, что Психея — это и есть Фекла, я догадался и по великолепным бокам, и по реакции пускающего слюни Кузьмы Платоновича, и поведению стоящего в дверях буфетчика Ваньки Сивого, грустного алкоголика, с гордостью за красавицу жену снисходительно поглядывающего на восхищенных зрителей.
Эта картина была последней, и, как только начался закрываться занавес, с хоров грянула музыка. Оркестр у Трегубова был скромный: две скрипки, альт и почему-то жалейка. Играли музыканты так себе, не слаженно и фальшиво, однако, невзыскательная, подвыпившая публика была в полном восторге. Музыка дополнила впечатление о богатстве и утонченности хозяина.