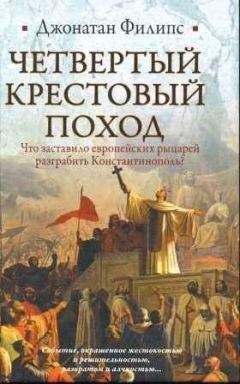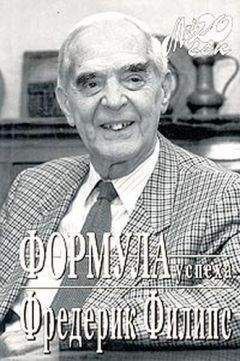Вернувшись в Константинополь, император Алексей изменился. Одобрение провинции и радостный прием в городе помогли укрепиться его уверенности в себе. Прежде он был лишь тенью своего отца, но теперь, став помазанником, проведшим успешную кампанию, он стремился к свободе и утверждению собственной независимости.
Одним из первых действий по возвращению стал приказ о казни через повешение всех участников свержения и ослепления его отца в 1195 году. Учитывая непредсказуемость ситуации в Константинополе, устранение потенциальных заговорщиков было разумным шагом. Но куда большее влияние на нестабильность Византийской империи оказало пагубное ухудшение отношений между Алексеем и его отцом. Увы, их семейная связь оказалась недостаточно прочной, чтобы преодолеть желание каждого к единоличной власти. Алексей с союзниками смог изгнать узурпатора из Константинополя, а теперь объехал близлежащие земли, где был признан в качестве императора. Это были деяния молодого и удачливого правителя. Исаак благоразумно оставался в Константинополе — однако его слепота, его предшествующее свержение и сын, выступающий в роли соправителя, означали, что теперь его императорская власть значительно отличалась от той, которой он лишился в 1195 году.
Никита Хониат отмечает, что все больше людей относилось к Алексею как к ведущей фигуре в паре императоров. Имя молодого человека стало произноситься первым в публичных объявлениях, а имя Исаака следовало «словно эхо»[467]. Слепота служила постоянным напоминанием о его неполноценности, и старший император чувствовал, что власть ускользает из его рук. Он стал резким и обидчивым, начал брюзжать о недостатке самоконтроля у Алексея и распространять слухи о сексуальных предпочтениях молодого человека, считая, что тот «водит компанию с испорченными людьми, которых шлепает по заднице, а они отвечают ему тем же».[468]
В течение первых недель после возвращения из Фракии Алексей по-прежнему много общался с крестоносцами. Они были вместе вот уже более года, что создавало некоторое родство. Императору нравилось общаться с уроженцами Запада — ведь он и сам провел несколько месяцев при европейских дворах. Нередко он приходил в лагерь крестоносцев, где проводил дни в выпивке и игре в кости. Атмосфера была столь непринужденной, что Алексей веселился, позволяя своим товарищам снять с его головы золотую с алмазами корону и заменить ее мохнатой меховой шапкой. Никите Хониату такое поведение казалось зазорным, позорящим имя императора и пятнающего честь Византийской империи.[469]
Греческий хронист отмечает резкое изменение в политических действиях Исаака. Прежде его характеризовала мягкость и отсутствие воинственности. Теперь же, возможно, измучившись страданиями и утратой авторитета, он начал искать облегчения в компании предсказателей и астрологов. Никита считал их обычными шарлатанами, которые пользуются ситуацией и пытаются набить брюхо благодаря императорскому хлебосольству. Слепого императора всегда привлекала ворожба и предсказания, но теперь он всерьез обратился к таким занятиям. Вероятно, таким способом он пытался оградить себя от собственной неспособности что-либо изменить и от возвышения сына.
Под влиянием предсказателей Исаак начал мнить себя единственным правителем Византии. Более того, его честолюбие простиралось еще дальше — к объединению в своем лице Восточной империи (Византии) с Западной (титул Германских императоров). Если, к примеру, Мануил Комнин пытался утвердить свое превосходство над Фридрихом Барбароссой, он все же никогда не принимал всерьез мысль о слиянии двух империй для образования могучего единства. В устах стареющего слепца, запертого в городе, под стенами которого стояла непреклонная и близкая к отчаянию армия, такая мысль говорила о полной неспособности оценить реальную обстановку. Исаак верил, что в один прекрасный день сможет протереть глаза, и слепота исчезнет, пройдет и досаждавшая подагра, а сам он «преобразится в богоподобного человека».[470] Некоторые монахи с бородами «обширными, как тучная нива», подогревали мечты Исаака, поскольку он не отказывал им в роскошных яствах и винах в императорском дворце. Легковерный император вполне доверял их пророчествам, радуясь все новым предсказаниям. Одним из его эксцентрических распоряжений было повеление снять с пьедестала на Ипподроме знаменитого Каледонского вепря, существо из греческой мифологии.[471] Это грозное чудовище с ощетинившейся шерстью было перенесено к Великому дворцу, чтобы охранять императора от городской черни. Хотя таким образом вроде бы признавалась угроза, исходящая от толпы, едва ли подобный способ защиты трона может представляться удачным. Нынешнему читателю такие действия кажутся поступками немощного человека, далекого от реальности и неумолимо стремящегося к катастрофе. Физическая слепота Исаака сравнялась со слепотой политической, так что вскоре жители Константинополя стали относиться к нему с таким же презрением, как и к его сыну.
Более хитроумный политический деятель смог бы использовать к своей выгоде очевидную связь между Алексеем и крестоносцами. Учитывая стремление Исаака к власти и все большую неприязнь к сыну, можно было использовать оппозиционные по отношению к чужеземцам настроения. Хотя уроженцы Запада, несомненно, представляли серьезную военную угрозу, решись старший правитель на смертельную схватку с крестоносцами, от которой отказался Алексей III, или воспользуйся он зависимостью крестоносцев от византийских поставок продовольствия, Исаак мог бы получить желанное первенство. Но и отец, и сын были столь заняты личными идеями и политическими махинациями во дворце, что изолировали себя от подлинных чаяний граждан Константинополя.
Итак, императорский титул был запятнан трусостью Алексея III, а затем изменой и непопулярностью его преемников. Гордость византийского трона и самый его дух, созданные в течение столетий и служившие неотъемлемой частью самоидентификации жителей Константинополя, оказались в прискорбном забвении. Монолит власти дал трещину. Это, в свою очередь, означало, что преданность носителям императорского титула ослабла, а временами просто исчезала. Исаак и Алексей должны были очнуться и начать действовать, чтобы соединить собственные интересы со стремлениями граждан Константинополя. Альтернативой была только вполне предсказуемая — и, скорее всего, мучительная политическая гибель.
Явственное отсутствие руководства побуждало горожан к волнениям. Жители Константинополя, раздраженные бегством Алексея III, униженные могуществом крестоносцев, разъяренные разрушениями, причиненными пожаром, искали решение своих трудностей. Жертвой «нетрезвой части толпы» (как назвал их Никита Хониат) стала статуя богини Афины, стоявшая на пьедестале на Форуме Константина. Никита восхвалял красоту бронзового произведения искусства высотой в десять футов, описывая статую подробно с головы до пят. Он нежно вспоминает складки ее одеяния, тугой пояс на талии и укрывавшую грудь и плечи накидку из козлиной шкуры, украшенную головой Горгоны. Статуя была столь похожа на живую, что казалось, будто вены Афины колеблются под напором крови, а тело наполнено цветением жизни. Глаза были исполнены чувства, шлем венчал гребень из конского волоса, а волосы были туго стянуты на затылке, оставляя впереди часть прядей. Левая рука Афины была скрыта складками одеяния, но причиной приговора толпы послужила ее правая рука. Как пишет Никита, голова и правая рука богини были обращены на юг, однако народ, не обращая внимания на указания компаса, решил, что она смотрит на запад и, таким образом, призывает в город армию крестоносцев. Из-за такого вероломства статую стащили с пьедестала и разбили на куски. Никита воспринял это действие как нанесение увечья самим себе, поскольку оскорбление покровительницы войны и мудрости было неумным поступком. Разумеется, он был достаточно мудр и не приписывал изваянию статуса божественности, называя его лишь воплощением упомянутых достоинств.[472]
В то же время, когда происходили открытые волнения, императоры продолжали беспощадный сбор средств для удовлетворения потребностей своих союзников. Естественно, народ усиленно сопротивлялся любым попыткам изъятия у него денег. Столкнувшись с ситуацией, чреватой социальным взрывом, императорская администрация обратилась к более слабым мишеням — а именно к церкви и состоятельным лицам. Часть сокровищ, которые можно было забрать в Святой Софии, были изъяты и переплавлены. Десятки серебряных лампад, свисавших со сводов огромного храма, были собраны и преданы огню. Состоятельные горожане (среди которых, возможно, был и сам Никита) были обязаны внести пожертвования. Автор с пренебрежением называет происходящее швырянием мяса собакам и пишет о «нечестивом смешении языческого и священного».[473]