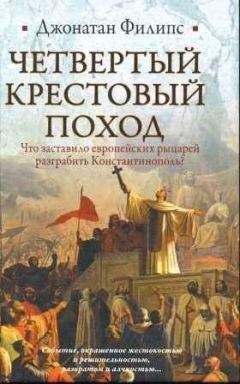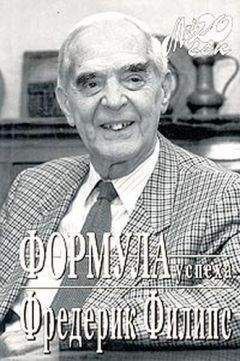В то же время, когда происходили открытые волнения, императоры продолжали беспощадный сбор средств для удовлетворения потребностей своих союзников. Естественно, народ усиленно сопротивлялся любым попыткам изъятия у него денег. Столкнувшись с ситуацией, чреватой социальным взрывом, императорская администрация обратилась к более слабым мишеням — а именно к церкви и состоятельным лицам. Часть сокровищ, которые можно было забрать в Святой Софии, были изъяты и переплавлены. Десятки серебряных лампад, свисавших со сводов огромного храма, были собраны и преданы огню. Состоятельные горожане (среди которых, возможно, был и сам Никита) были обязаны внести пожертвования. Автор с пренебрежением называет происходящее швырянием мяса собакам и пишет о «нечестивом смешении языческого и священного».[473]
Сборщики денег пользовались услугами информаторов, указывавших на состоятельных лиц и неустанно искавших новые объекты. Крестоносцы тоже были вынуждены применять давление для сбора средств, занимая расположенные неподалеку от Константинополя процветающие поместья и церковные организации, чтобы получить необходимые средства.
К зиме 1203 года ситуация в Константинополе достигла критической точки. Никита Хониат создает яркую и убедительную картину разлагающейся великой цивилизации. Ощущение внутреннего упадка и разрушения в Константинополе было почти осязаемым. Царь-Город, с прекрасными зданиями и символами власти, был брошен на колени неумелыми правителями, непредусмотрительными горожанами и неуступчивыми врагами.
Среди византийцев ключевой фигурой был, конечно же, Алексей. С каждым днем молодой правитель оказывался во все более тяжелом положении. Он опирался только на крестоносцев, которым обещал огромные суммы денег. Его политическая власть зависела от их военного могущества, а сам он завязал дружеские связи с отдельными воинами. Уже с августа, когда он попросил перенести лагерь в Галату, император осознавал, насколько непопулярны его союзники. Страшный пожар и продолжающиеся конфискации денег и ценностей только сыпали соль на раны. Жители Константинополя мечтали лишь о том, чтобы уроженцы Запада покинули их. Молодой правитель должен был убить двух зайцев — остаться у власти до их отбытия, а до тех пор использовать присутствие крестоносцев, чтобы попытаться создать себе такое положение, в котором смог бы сохранить власть и после их ухода в марте 1204 года.
Он был вынужден умиротворять свой народ и при этом отнимать у него золото. В то же время он не мог рисковать и отталкивать своих союзников, прекратив выплаты или одобряя выступления против них. Нам известна хвалебная речь современника, превозносившая императора, как то предписывал этикет — интересно, что в ней не было даже упоминания о Исааке (что предполагало переход к его сыну всей полноты власти). Вместе с тем в ней слышалась явная неприязнь по отношению к крестоносцам. «Если они и доставили императора, прибывшего сюда по воле Господней, не следует им превозноситься. Восстановив права нашего господина, они исполнили долг слуги, так пусть и теперь будут покорны законам». В речи таится предостережение против жадности «старого» Рима, пытающегося вернуть свою молодость за счет Рима нового.[474]
Алексей Дука, известный как Мурзуфл, заметная фигура в константинопольских выступлениях против крестоносцев{40}, осуждал императора за выплату им огромных сумм и заклад многих земель. Он призывал Алексея «заставить их убраться».[475]
Разумеется, крестоносцы зависели от Алексея III в поставках продовольствия, нуждались в финансовой и военной поддержке весной. И все же, как продемонстрировал ожесточенный спор на Корфу, значительная часть армии была равнодушна к идее поддержки императора и не была склонна терпеть нарушения обещаний. Чем дольше Алексей не мог заплатить обещанные деньги, тем сильнее в армии назревало недовольство. Недоверие к грекам разрасталось словно язва.
Бонифаций Монферратский попытался использовать дружеские отношения с Алексеем, чтобы убедить его возобновить выплаты. Он посетил императора, напомнил, насколько он обязан крестоносцам, которые восстановили его на престоле, и призвал его сдержать слово. Учитывая давление, с которым Алексей сталкивался в Константинополе, у него не оставалось другого выбора, кроме дальнейшего проведения политики примирения. Он обратился к Бонифацию с просьбой потерпеть и заверил в том, что выполнит их договоренность.[476] И все же вскоре поступление денег сократилось, а затем и вовсе прекратилось.
К этому времени года, а дело происходило в ноябре, император понимал, что флот крестоносцев не сможет выйти в море. Возможно, он решил, что вынужденной неподвижности и зависимости от продовольственных поставок будет достаточно, чтобы удержать уроженцев Запада от военных действий. Кроме того, он рассчитывал, что, прекратив выплаты, он сможет получить передышку в Константинополе.
Первого декабря неприязнь между уроженцами Запада и византийцами выплеснулась в открытое столкновение. Толпа начала набрасываться на всех встреченных чужеземцев, жестоко убивая их и сжигая тела. Греки попытались напасть на корабли крестоносцев, но были быстро отбиты, потеряв значительное количество своих суден.
Копившееся напряжение выплеснулось в открытое противостояние. Руководители крестового похода должны были продумать дальнейшие действия, окончательно прояснив намерения императора по отношению к бывшим союзникам. Было решено отправить официальную делегацию к Алексею, чтобы напомнить ему об обязательствах по отношению к крестоносцам и потребовать их выполнения. В случае отказа послы должны были заявить, что «сделают все возможное, чтобы вернуть обещанные деньги».[477]
Учитывая дипломатический опыт и ораторское мастерство Конона Бетюнского и Жоффруа де Виллардуэна, именно они оказались двумя из шести посланников. Остальными были француз Мило Прованский и трое знатных венецианцев. Препоясавшись мечами, они отправились верхом вдоль Золотого Рога по Влахернскому мосту ко дворцу.[478] У ворот они спешились, как и надлежало послам, и направились в один из залов, во главе которого восседали два императора, облаченных в роскошные одеяния. Здесь же была Маргарита, жена Исаака, приходившаяся мачехой Алексею. Виллардуэн вновь упоминает о ней как о «достойной прекрасной даме».[479]Чтобы подчеркнуть важность встречи, зал был наполнен византийской знатью. Обе стороны понимали, что происходил не обычный визит вежливости, а решительная встреча, от итогов которой будет зависеть столкновение или же разрешение напряженной ситуации.
Конон изложил ставшее привычным дело. Крестоносцы сослужили двум императорам огромную службу, Алексей и Исаак в ответ пообещали выполнить свои обязательства, но не сделали этого. Крестоносцы представили скрепленные печатями документы с первоначальным договором. Затем следовал ультиматум: если византийцы исполнят обещания, крестоносцы удовольствуются этим. В противном случае «они не смогут далее считать тебя [Алексея] своим повелителем и другом, но сделают все возможное, чтобы получить причитающееся им. Они просили нас сказать, что не причинят вреда ни тебе, ни кому бы то ни было другому, не предупредив о намерении начать военные действия».[480] В заключительных словах Конона таилось скрытое раздражение на хозяев. Заверив в предупреждении о начале войны, он добавил: «Они [крестоносцы] никогда не поступали вероломно, поскольку это не в традициях их стран».[481] Этот выпад против характера греков показывал давние предубеждения уроженцев Запада и обозначал рост недоверия к Алексею. Разумеется, слова были составлены так, чтобы нанести обиду.
Завершение речи Конона потонуло в ропоте. Его слова привели в ярость собравшуюся византийскую знать. Сразу же вспомнилось все возмущение против западных варваров. Виллардуэн пишет, что ни у кого прежде не хватало дерзости входить в императорский дворец и диктовать императору свои условия. Зал загудел вскриками. Собравшиеся тыкали пальцами в кучку посланников. Даже если Алексей собирался предложить крестоносцам более примирительный ответ, настроение в зале приравняло бы его к самоубийству. Несмотря на номинальную неприкосновенность крестоносцев в качестве послов, ярость была такова, что латиняне стали опасаться за свои жизни. Столь опытному человеку, как Виллардуэн, привыкшему, как мы видели, к такого рода опасностям, нынешнее суровое испытание показалось необычным и пугающим. Крестоносцы чувствовали себя полностью отрезанными от всего мира. Они поспешно развернулись и заторопились по дворцовым переходам к выходу, где ждали их лошади. «Не было среди них человека, не возрадовавшегося, оказавшись снаружи».[482] Радуясь удачному избавлению, они помчались обратно к Золотому Рогу. Выражение лиц рассказало об оказанном приеме уже при въезде в лагерь. Была собрана знать, чтобы выслушать рассказ о посольстве. «Так началась война», — коротко и сдержанно сообщает Виллардуэн.[483]