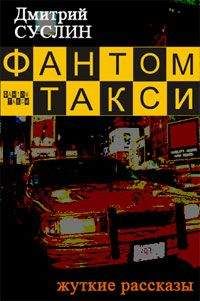Но выступить Ворошилову не удалось. По нелепому совпадению, а может, и вредительскому умыслу, как раз в это время шла с работы в концлагерь трехтысячная колонна заключенных. А дорога пролегала вплотную к забитой людьми площади. Заключенные бросились вдруг в толпу, окружавшую трибуну, смешались с первостроителями, рабочими, спецпереселенцами. Охрана открыла стрельбу, но вверх, в небо. Отважного Климента Ефремовича с трибуны — как ветром сдуло.
Историю эту Молотов узнал в пересказе и от Орджоникидзе, и от своего душевного друга — Авраамия Павловича Завенягина. Сталин при попойках на своей даче иногда стучал вилкой по фужеру и насмешничал:
— Расскажи, Серго, как нашего Климку с трибуны в Магнитке, будто ветром сдуло...
— Да врет он все! — протестовал Ворошилов.
И Ворошилов, и Орджоникидзе могли привирать. Но не был способен на такое Авраамий Завенягин. У политических деятелей высокого ранга не бывает друзей. Не пытайтесь узнать, кто был другом у Цезаря, Наполеона, Гитлера, Бисмарка, Сталина, Кагановича... У руководителей государства, как и у гениев, друзей не бывает. Они — одиноки. Из всего советского правительства друга имел только один — Молотов. И дружба эта была тайной. Молотов познакомился с Авраамием года за два до смерти Ленина на партконференции в Харькове. Жили они с Авраамием в одном номере гостиницы. Грипп или какая-то неведомая горячка свалила Молотова в постель. Он метался в бреду, теряя сознание, умирал. В больницу его не приняли, она была забита тифозниками. И все забыли о Молотове, кроме Завенягина. Авраамий вызывал врача-частника, приносил молоко, малину в сахаре, настой чабреца на меду. Все это стоило дорого, и Завенягину пришлось продать на толкучке свои именные серебряные часы, которые он получил за участие в разгроме повстанческого движения зеленых. На пятый день болезни Молотов обмочился, но от полного изнеможения встать с постели не мог. Завенягин перенес его в свою сухую постель, обтер влажным от уксуса полотенцем, приговаривая:
— Ты выживешь, Вячеслав. Пот из тебя хлынул, жара спадает. Желтое пятно на простыне Завенягин застирал в тазике, истратив свой последний окатыш духового мыла. И выходил Завенягин больного.
— Век буду благодарен, Авраамий, — прошептал тогда Молотов, еле шевеля вспухшими, потреснутыми губами.
После этого Вячеслав Михайлович никогда не терял из виду Завенягина, не забывал о нем. Впрочем, помогать ему не приходилось. Авраамий был талантливым инженером и организатором, любимцем Серго Орджоникидзе. И не случайно его направили к Магнитной горе — директором металлургического завода. Утверждал Завенягина на должность сам Сталин. Коба спросил у Серго Орджоникидзе:
— А твой Завенягин понимает, какую он берет на себя ответственность?
Сталин при всей своей информированности не знал о дружбе Молотова и Завенягина. Иосиф Виссарионович полагал, что Завенягин является учеником и выдвиженцем Серго Орджоникидзе. Впрочем, в этом Коба не ошибался; так оно и было.
В Москве Авраамий Павлович Завенягин бывал часто, как все крупные хозяйственники. Молотов обычно принимал друга на даче. Они пили чай в беседке под кроной дуба, вершина которого была изуродована молнией. Вячеслав Михайлович при последней встрече промолвил:
— Ты, Авраамий, будь осторожен. Не лезь в политические интриги. НКВД все видит, все слышит, все знает. Кстати, как у тебя складываются отношения с Бесо?
— Плохо, дружбы нет. Однако отношения — деловые, нормальные.
— Ты нуждаешься в дружбе с Бесо? — посмотрел Молотов на обожженную молнией вершину дуба.
— Нет, Вячеслав, не нуждаюсь. Не лежит у меня к нему сердце. Но я уважаю его. И в Магнитке он популярен, любят его рабочие.
Молотов поднял сухую веточку, упавшую с дуба, переломил ее:
— У Генриха Ягоды сигнал есть, что Ломинадзе распространяет пакостное письмишко Рютина...
Начальник исправительно-трудовой колонии Гейнеман составлял отчет, то и дело перечеркивая цифирь, когда к нему вошел Порошин. Они обнялись, похлопали друг друга по плечам, обменялись шутливыми тумаками, ибо презирали мужиков, которые при встречах слюняво целуются. Не может быть в жизни более отвратительного явления, чем поцелуи мужчин с мужчинами. Извращение какое-то! Тошноту вызывает это у нормального человека.
В Магнитогорске мало кто знает, что Порошин и Гейнеман — друзья с детства. А они выросли в одной московской коммуналке, учились в одной школе на Садовом кольце возле посольской улочки. Равенства и дружбы между их семьями не было. У Мишки Гейнемана отец был портным, семья теснилась в одной комнатке. А профессор Порошин барствовал с женой и сыном Аркашей в трех весьма просторных покоях с отдельным туалетом и ванной. Но обособленной кухонки после революции не было и у Порошиных. Общий коридор, общая кухня — коммуналка. Когда-то вся эта квартира из девяти комнат принадлежала профессору Порошину. Но победивший пролетариат потеснил богатеев. В покои Порошиных Моссовет подселил шесть семей из еврейской бедноты. Профессор был слишком известен и уважаем, чтобы у него изъять всю квартиру. Жильцы коммуналки не признавали Порошиных за своих, поскольку у профессора был персональный туалет с голубой голландской раковиной и ванная, куда соседи не допускались. По этой причине Порошиных не любили и даже ненавидели, устраивая им разные пакости. То галоши украдут, то таракана подбросят в кастрюлю с куриным бульоном. И не боялись, хотя профессор лечил самого Менжинского. Бывал у него и Артузов — глава контрразведки.
Мишка Гейнеман и Аркашка Порошин никогда не ссорились. Ничто не могло испортить их отношений. Профессор иногда брезгливо поучал сына:
— Аркадий, я запрещаю тебе общаться с этим еврейчиком! Это компрометирует нашу семью. У твоего дружка грязь под ногтями, от него пахнет утюгом. У него глазенки хитреца. Он тебя завлечет в нехорошую компанию, погубит судьбу твою.
Но дружба мальчишек не порушилась. Они сидели в школе за одной партой, защищали друг друга в драках, после окончания десятилетки поступили в один институт. Так уж получилось — одно детство, одни игры, одни книги и увлечения, одна — юность. Как-то Менжинский заехал к профессору Порошину, разговорился и с Аркашей.
— Вырос ты на моих глазах, сынок. Институт закончил, где будешь работать?
— Хочу в уголовный розыск, — ответил Аркадий.
— Подойди завтра к моему заместителю, к Ягоде, — с ласковой гипнотичностью сказал Менжинский.
— А можно мне прийти с другом, с Мишкой Гейнеманом? — по святой простоте спросил юноша.
— Приходи с другом, — рассмеялся беззвучно Менжинский.
Так вот и устроились в НКВД друзья — Аркадий Порошин и Михаил Гейнеман. И карьера у них была головокружительной. Будто неведомая сила поднимала их с одной ступени на другую, хотя работали они в разных отделах. Впрочем, у Аркадия Порошина проявились незаурядные способности сыщика. Он раскрыл несколько крупных преступлений. А после «рютинского дела» стал знаменитостью. Рютина вычислил и нашел он, Аркадий Порошин. Горьким и тревожным было падение с таких высот. Невозможно было узнать, за что арестовали отца. Продержали полгода в Бутырке без допросов и Аркадия, но вдруг выпустили, направили в Магнитогорск. Сюда же, но чуть раньше был послан на должность начальника исправительно-трудовой колонии — Михаил Гейнеман.
Друзья встретились вновь, но вели себя осторожно, близкие отношения свои не выказывали. Да и дружба их была необъяснимой по тем временам. Аркадий Порошин свято верил в торжество мировой революции, в идеалы коммунизма, в необходимость диктатуры пролетариата. А Мишка Гейнеман сокрушал все эти понятия своей блистательной иронией, критической остротой, веселым безверием. И они полемизировали ночами напролет, спорили, обзывали друг друга, оскорбляли, но скорее шутливо — без малейшей злости. Порошин испытывал перед Гейнеманом и чувство вины, понимая, что друг попал в ссылку не просто так. Отца взяли скорее всего за длинный язык, а Мишку-то за что бросили в ад?
— Ты зачем средь бела дня приперся? — спросил Гейнеман.
— У меня, видишь ли, дело...
— Какие дела могут быть в наши дни? Приходи завтра вечером, я тебе покажу чудо. Есть у меня один зэк, волшебник.
— Псих?
— Для общества он — псих. Для нашего советского общества каждый необычный человек — или враг, или чокнутый. Аркаша, у меня сердце обливается кровью, когда я с ним беседую. Чтобы спасти его от гибели, пристроил библиотекарем, прикармливаю.
— Мишка, я тоже волшебник: легко могу угадать фамилию, имя, отчество твоего чудодея.
— Валяй!
— Бродягин Илья Ильич. По прозвищу — Трубочист.
— Аркашка, ты — гений!
— Я сыщик, Миша. Дай-ка указание доставить сюда срочно этого Бродягина. Он мне нужен позарез.
Офицер караула привел зэка минут через десять. Перед начальством предстал высокий, изможденный, начинающий седеть человек, но явно лет сорока, не более. Его ястребиный нос хищно жаждал свободы, но голубые мерцающие глаза были полны скорби и обреченности.