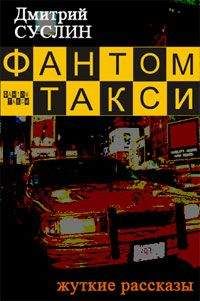— Кто это — они?
— Вредители, троцкисты, враги.
Гейнеман вздохнул, уперся локтями в стол, закрыл лицо ладонями:
— Ты ослеп, Аркаша. Мы уничтожаем сотни тысяч, миллионы безвинных людей. Ты — русский, а Россию не жалеешь. Почему я, еврей, должен за нее болеть? Мне не жалко ваших казаков, крестьян, работяг. Но ведь репрессии обрушились и на ученых, на интеллигенцию, на евреев.
Порошин улыбнулся:
— Ученых, творческую интеллигенцию надо было припугнуть, сломить. Очень уж они неуправляемы: критиканствуют, обличают, свободы требуют. А вот о репрессиях против евреев слышу впервые.
— Аркадий, вспомни хотя бы дело об Уральской промпартии. Какие люди положили головы на плахи: Гассельблат, Тибо-Бриньоль, Гергенредер, Рубинштейн, Тшасковский... Но ведь не существовало никакой промпартии! Дело ? 13/4023 — сфабриковано. И не надо пророком быть: Сталин скоро начнет уничтожать всех евреев.
— У тебя завиральные идеи, Мишка. Все ленинское правительство было сплошь еврейским: Свердлов, Троцкий, Каменев, Зиновьев... Нашей армией руководят евреи — Уборевичи, Корки, Эйдеманы, Якиры... Менжинский и Ягода евреи. Твой гулаг возглавляет Берман, все начальники концлагерей — евреи! Я бы на месте Сталина не допустил такого еврейского засилья. Это, в конце концов, опасно для государства. Вы, евреи, уж такой народ: один пролезет — и тащит за собой всю синагогу. Сами подаете повод для подозрений и разговорчиков.
— Ты стал антисемитом, Аркаша? — погрустнел Гейнеман.
— Нет, Миша. Евреи — хорошие люди. Я даже думаю, что в России остался всего один по-настоящему русский человек.
— Кто?
— Штырцкобер!
— Портной из тюрьмы?
— Да, он.
— Скоро все там будем жить, в тюрьме.
— Нет, Миша, нас не арестуют. Мы — хозяева положения. И не стоит нам суетиться, духом падать. Будем работать. Мы в общем-то исполнители. Принеси-ка мне лучше досье, дело на Бродягина. Любопытство разбирает. Когда он был арестован первый раз? За какие грехи?
— Досье у меня под рукой, Аркаша, в столе. Впервые Трубочист арестован в 1917 году возле Троице-Сергиевой лавры, за антисоветскую агитацию. И квартировал он там — у монаха.
— Что у него изъято при обыске? Оружие было?
— Оружия не было. Изъяты самогонный аппарат, портативный радиопередатчик необычной конструкции, подзорная труба и водолазный костюм.
— Странный набор предметов. Вещи были на экспертизе? Например, радиопередатчик? Какого типа, где изготовлен?
— Нет, Аркаша. Экспертиза не состоялась. В чека пожар случился. Все сгорело. А остатки хлама в головешках и в пепле не искали.
— Напрасно, надо было покопаться в золе. Может быть, этот Бродягин заслан к нам резидентом какой-нибудь иностранной разведки? И валяет Ваньку, разыгрывает психа, фантазера.
— Не отдам я тебе, Аркаша, моего Трубочиста. Все сделаю, чтобы его комиссовали — как психа. А ты лучше занимайся своим делом — ищи труп старухи.
«Любовь есть неосознанное стремление к продолжению человеческого рода», — утверждал великий философ Шопенгауэр. Порошину эта мысль показалась сначала весьма глубокой. Но чем чаще он повторял про себя изречение мудреца, тем сомнительнее выглядел постулат. Ведь у животных тоже есть неосознанное стремление к продолжению рода. Получается, что и у них есть любовь. Почему же Шопенгауэр не подумал об этом? Но мыслитель был очень близок к истине. Его положение легко развить и углубить. И Аркадию Ивановичу Порошину однажды показалось, будто он окончательно сформулировал закон природы, открыл суть явления, нашел истину. А озарила Порошина горкомовская буфетчица — Фрося.
Аркадий заметил Фросю давно, на сцене самодеятельности, когда она тренькала на балалайке и пела частушки. Красавиц на Магнитострое было не так уж много: журналистка Людмила Татьяничева, молодая учителка — Нина Кондратковская, дочка инженера-спеца Эмма Беккер, ну и эта — Фрося. Но что-то было в ней примитивное, если не вульгарное. И вдруг она преобразилась. В буфете горкома партии Фрося работала не так уж и давно. Взяли ее на эту должность по личной рекомендации Ломинадзе. Девчонка обладала феноменальной памятью, мгновенно усваивала и мягко имитировала манеры интеллигенции, органично вписывалась в цвет местного общества. И все-таки устойчивости в уровне культуры у Фроси не было. Она срывалась.
Обеды в горкомовском буфете были приличными: борщи с мясом, наперченные рассольники, суп харчо, котлеты с гречкой или вермишелью, а иногда люля-кебаб с рисом. Жаркое или гуляш с картофельным пюре всегда были. Ломинадзе любил покушать вкусно, но при условии, чтобы блюдо готовилось для всех, а не только для секретаря горкома. Голода в стране в это время уже не было при всей скудости. В горкомовский буфет стали приходить на обед и директор завода Завенягин, и Коробов, и Валериус, и прокурор Соронин, и начальник НКВД Придорогин, а также интеллигенция — врач Функ, преподавательница института Жулешкова со своей любимой студенткой Лещинской, журналистка Олимпова... Обеденный зальчик буфета становился и местом деловых встреч, и клубом общения, и коротким — часовым — отдыхом от суеты, ругани, перегрузок. Просачивались в горкомовский буфет и прилипалы, такие, как осведомители НКВД — Махнев, Разенков, Шмель. Фроська вначале пыталась их терроризировать:
— Ты кто?
— Я Шмель.
— Шмель — это насекомое. Я тебя спрашиваю: где работаешь? Как сюда попал?
Ломинадзе, однако, поставил буфетчицу на свое скромное место:
— Фрося, мы тебя взяли на работу не для того, чтобы ты хамила. Капиталист выгнал бы тебя за грубость без раздумья. Чем тебе не нравятся эти парни? Вай-вай!
— Так они же сиксоты, — наивно оправдывалась Фроська.
Сексот — это сокращенное название секретного сотрудника НКВД. Но в народе не все об этом ведали. И каждого ябедника обзывали извращенно «сиксотом», не докапываясь до происхождения термина. Ломинадзе не терпел это гнусное словечко. Сексот — сиксот! Услышал сие словцо — и настроение портится, будто нечаянно в рот попала мокрица.
— Откуда тебе известно, что они... эти, так сказать, иудушки? — посмотрел пристально на буфетчицу секретарь горкома.
— Иудушки! — отогнал мух за обеденным столом доктор Функ.
— Иудушки! — прозвенела выпавшая из рук Лещинской ложка.
— Иудушки! — подтвердила громко и решительно рыжая буфетчица Фрося.
Начальник милиции Придорогин встал шумно из-за стола, бросив обкусанный ломоть хлеба, опрокинув солонку.
— Соль просыпал, будет ссора, — раскланялся, уходя из буфета, доктор Функ.
Придорогин подошел вплотную к Ломинадзе и зашипел:
— Надо думать, прежде чем рот раскрывать.
— Что я сказал? Чего ты окрысился? — отодвинул начальника НКВД Ломинадзе, поскольку от него исходил дурной запах гнилых зубов.
— Секретарь горкома — называется! А разговорчики политически ущербные. Скажите мне, товарищ Ломинадзе, как это вы мыслите оперативную работу без осведомителей? Каждый сознательный советский человек должен быть сексотом, помощником органов госбезопасности. Вы подрываете наши устои. Не суйте свой нос в то, в чем не разбираетесь.
Виссарион Виссарионович Ломинадзе тоже рассердился:
— Если они ваши, извините за выражение, сексоты, то почему об этом известно нашей буфетчице Фросе? Вы просто не умеете работать, товарищ Придорогин. У вас низкий профессиональный уровень!
Секретарь горкома партии окинул начальника НКВД неуважительным взглядом и вышел из буфетного зальчика. Через другие двери, в другую сторону, столовую демонстративно покинули Соронин, Придорогин, Пушков, Груздев. Гордо вышли и Жулешкова со студенткой Лещинской. Да, это был, конечно, скандал. Порошин не присоединился к уходящим. Он ощущал зверский голод, а обед был вкусен: суп гороховый, омлет с языковой колбасой, компот из ароматных груш солнечного Крыма, горячий, только что выпеченный хлеб. По этой причине Аркадий Иванович съел не только свой обед, но и оставшиеся, даже не затронутые омлеты своих коллег — Придорогина и Груздева.
Буфетчица Фрося сначала было заплакала, но через миг взбодрилась гневом, схватила поварешку и подбежала к столу, где сидели Махнев, Разенков и Шмель. Она шваркнула черпалкой по тарелке с гороховым супом, обрызгала желтой жижей и сидящего на другом столе Порошина.
— Мы составим акт, — пропищал Шмель, размазывая по своему лицу гороховую слизь.
Фроська ударила его поварешкой по губам:
— Из-за вас, идиетов, начальство голодным осталось.
Разенков и Махнев подошли подобострастно к Порошину:
— Просим, товарищ замначальника, зафиксировать ситуацию для судебного дела. Заверьте наш протокол.
Порошин вежливо поклонился:
— Простите, молодые люди. Но я задумался — и ничего не видел, не слышал. Разве здесь что-то произошло?
Под ударами поварешки Разенков, Махнев и Шмель выскочили за дверь, ушли, но свои омлеты засунули в карманы, обложив лакомство ломтями хлеба. Фроська начала обтирать полотенцем кожаную куртку Порошина.