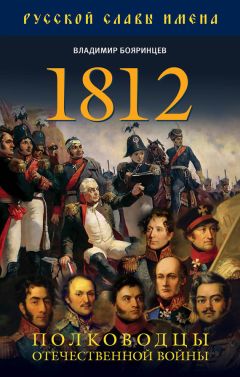— Что это они? — спросила Матильда, когда те отошли.
— Решили устроить дедовщину, — намеренно непонятно объяснил я. — Чем больше человек позволяет себя унижать, тем слаще ему бывает унижать других.
Француженка уже привыкла к моим загадочным высказываниям, потому, как это делают многие женщины, пропускала непонятную информацию мимо ушей, концентрируясь лишь на частностях.
— Мы пойдем с ними в лес искать тех холопов? — спросила она.
— Еще чего, я что, пацан, по лесу бегать, — непонятно на кого сердясь, ответил я, — мы с тобой сегодня уже достаточно навоевались, я хочу вернуться в лагерь и просто отдохнуть.
Она посмотрел на меня понимающим женским взглядом:
— Если ты надеешься, что… в шалаше…
— Я уже давно ни на что не надеюсь, — перебил я, — я просто хочу спать!
Матильда посмотрела на меня с сомнением, но спорить не стала и первой направилась в сторону лагеря.
В становище остались только лошади, все люди занимались охотой на «опричников». Я, предложив Матильде самой выбирать место, влез в первый попавшийся шалаш, разложил вдоль стенки оружие и сразу же лег.
Нынешняя бессонная ночь и напряженное ожидание атаки меня доконали. Веки сами собой закрывались, глаза резало, будто были засыпаны песком. Однако сразу заснуть мне не удалось, в шалаше появилась обиженная подруга и спросила, почему я с ней так поступаю. Правда, не уточнив, чем я ее обидел.
— Ложись, я умираю, как хочу спать, — взмолился я. — Поспим и все обсудим.
Она обдумала предложение и осторожно прилегла рядом. С мыслью о том, что так и не понял, какая муха ее укусила, я и заснул.
Разбудил нас громкий разговор. И проходил он, где-то совсем близко. Я сначала не понял, что происходит, но быстро пришел в себя и схватился за саблю.
— Мне все равно, что с вами будет, — резко выговаривал хорошо поставленный мужской голос. — Мужики должны вернуться по домам или я спрошу с вас. А как я спрашиваю, вы знаете!
— Прости, барин, — принижено начал оправдываться какой-то человек. — Коли бы только мужики, то мы хоть сей же миг, содрали шкуру, и сушиться повесили! Только не крестьяне здесь, откуда у мужиков ружья? А Кондрашке-горемыке, пистоль-то вместе с рукой срубили!
— Я вас не затем привечал, лаской своей дарил, кормил и поил, что бы вы живот свой жалели! — опять гневно заговорил первый, теперь мне стало понятно, наш долгожданный барин. — Вы в моей воле, и жизнь за господина должны положить, да за счастье сие почитать! А вы бежали, как зайцы, от простых мужиков!
На какое-то время воцарилось молчание, видимо, сторонам больше нечего было друг другу сказать. Я осторожно раздвинул еловые лапы, которыми был покрыт шалаш и посмотрел, кто к нам пожаловал.
Матильда тронула меня за плечо, давая понять что, тоже не спит, прошептала в самое ухо:
— Погожин?
Я кивнул, сделав знак, что бы она молчала. Павел Петрович стоял всего в трех шагах от нашего шалаша, а перед ним с повинными головами и снятыми шапками томились виноватые опричники. На наше счастье было их всего шестеро. Что при любом раскладе на двоих слишком много, но, все-таки лучше, чем полтора десятка.
Я, стараясь не обнаружить нашего присутствия, потянул к себе мушкетон. Огневой припас у меня кончался, и пришлось зарядить его половинным зарядом пороха и всего двумя пулями. Однако почти в упор выстрел должен был получиться смертоносным.
— Не стреляй! — прошептала Матильда и вцепилась мне в руку. — Мне он нужен живым!
Я отстранился, чтобы она не мешала, и свирепо на нее посмотрел. Лицо ее было напряжено, скулы побелели, и недавний шрам от пистолетной пули стал еще более заметен. Я опять подумал, как хорошо, что у нее нет зеркала. Когда она себя увидит, тогда и начнутся настоящие переживания. Хотя, честно говоря, шрам ей даже шел, делая лицо интереснее и, как-то, значительнее. Однако для женщины это слишком слабое утешение.
Павел Петрович что-то услышал и посмотрел в нашу сторону. Взгляд его был рассеянный, исподлобья. Похоже, что последние дни у него выдались трудными, и он сильно постарел. Глядя на этого импозантного старика, я бы никогда не подумал, кто он такой на самом деле. Внешность Погожина-Осташкевича можно было посчитать даже благородной: седые бакенбарды и усы, подстриженные по моде своего времени, сухой хрящеватый нос с породистыми, нервно вздрагивающими ноздрями, удлиненный овал лица и волевой подбородок. Он был похож на екатерининского вельможу, вальяжный и уверенный в себе человек. Портили Погожина только водянистые, настороженные глаза и тонкие, и скорбно сжатые в ниточку губы. Что, впрочем, было неудивительно в нынешней ситуации.
Оглядев наш и соседние шалаши, он успокоился и вернулся к своим «опричникам». Те стояли перед ним, виновато склонив головы. Теперь лица барина я не видел, только гордую спину, выражавшую презрительное возмущение.
— Ванька, стул и шатер! — крикнул он кому-то невидимому. Получалось, еще одному потенциальному противнику!
Тотчас в поле нашего зрения возник нарядно одетый малый, с раскладным стулом. Он разложил его прямо напротив шеренги холопов и с низкими поклонами, пятясь задом, удалился, как нетрудно было догадаться, отправился за «шатром». Петр Павлович опустился на стул, откинулся на спинку, продолжая уничижительно смотреть на своих клевретов. Те переминались на своих местах, не осмеливаясь поднять глаз пред ликом грозного владыки.
— Ну, что стоите истуканами! — вернулся барин к своим прямым обязанностям, владеть и управлять. — Найти мужиков и гнать сюда, а кто будет перечить и фордыбачиться, бить на месте до смерти! Мне строптивых холопов не надобно!
«Опричники» повернулись налево и гуськом пошли выполнять приказ. Я вполне понимал их состояние.
Потеряв больше половины товарищей, им только и дела было сталкиваться с взбунтовавшимися мужиками!
Оставшись один, Павел Петрович расслабился, и по тому, как двигался его затылок, можно было понять, осматривал окрестности. Я отложил мушкетон и жестом предложил Матильде посмотреть на своего противника. Она выглянула в щель между лапами и удовлетворенно кивнула головой.
— Подождем, пока уедут опричники, — прошептал я ей на ухо, переходя в оценке гайдамаков на общепринятую здесь терминологию.
— Батюшка-барин, — послышался льстивый, полный елея и патоки голос лакея, — где прикажешь шатер ставить?
Погожин-Осташкевич какое-то время молчал, словно принимал очень важное решение, потом распорядился:
— Поставь хотя бы и тут. А прежде набей мне трубку, да не плотно как в прошлый раз, а то не тянулась и принеси вина, в горле пересохло.