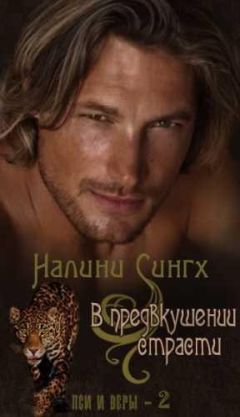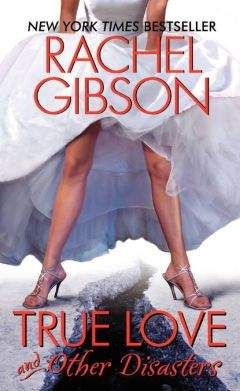Гостемил подумал, что в словах воеводы в первый раз за время их знакомства звучит здравый смысл.
— Хорошо. Вот что… до суда…
— До суда.
— Возьму только помощника.
— Кто-то из ратников слышал, — интимно сказал воевода, — что они дети какой-то… Зибы, что ли… и кто-то подметил, что главный…
— Ратникам сплетничать не пристало, — наставительно сказал Гостемил. — Но нет. Ни в каком родстве ни с какой Зибой я не состою, конечно же.
— Да, я понимаю.
Вскоре Гостемилу привели безбородого помощника со связанными сзади руками. Гостемил поблагодарил ратников и воеводу и положил руку помощнику на плечо. Помощник вздрогнул и хотел вывернутся, но боль в запястьях, локтях, бицепсах очень мешала.
— Конь мне нужен.
Тут же нашелся и конь — воевода рад был услужить Гостемилу в любой прихоти. Помощник стоял рядом с Гостемилом и смотрел в одну точку.
— Слушай меня, Ширин, — сказал Гостемил тихо. — Сейчас я сяду на этого коня… вот, того, которого ратник отчитывает за то, что он ему сапоги обосрал… Сяду на него, а тебя возьму под мышки и перекину через седло. Будто ты мой личный пленник. Персональный. И мы выйдем из детинца. Там будет много восторженных криков. Я повезу тебя в крог, где я остановился. И там ты будешь в безопасности. Если я выведу тебя отсюда пешком, тебя просто разорвут на части.
— Славянское говно, — сказал безбородый помощник.
— Тебе понятно то, что я только что сказал?
— Нет у вас, свиней, больше удовольствия, чем кого-то унизить.
— Не думаю, что это чисто славянская страсть, — заметил Гостемил. — Эй, дайте сюда коня! Сколько можно его отчитывать, наставники доморощенные, аристотели!
Ему подвели коня. Гостемил вскочил в седло, наклонился, взял пленника под мышки и, легко его подняв, перекинул через луку.
— Воевода!
— Да, болярин!
— Пусть приберут тут в столовой, а завтра в честь освобождения города дадим хвест! Зови смердов с едой, а повара я даю своего — лучшего в округе!
— Здрав будь, болярин! — закричали несколько ратников, радуясь.
Открыли ворота. Конь попытался выразить свое мнение по поводу веса всадника и дополнительного веса пленника, но Гостемил шлепнул его по загривку, и конь понял, что в данном случае его мнение не имеет веса. Восторженная толпа запрыгала, завопила, полетели в воздух черниговские старомодные, кособокие шапки. Гостемил поднял руку, приветствуя.
— Расступитесь, люди добрые, — сказал он народу милостиво. — Везу чудище диковинное к себе, мучить буду.
Люди засмеялись. Гостемил, боясь, что в толпе кто-нибудь ненароком, а то и специально, повредит пленнику болтающуюся голову, пустил коня рысью. Прибыв в Татьянин Крог, он ввел коня под узцы на задний двор и стащил пленника на землю. Шапка пленника, отороченная густым темным мехом, оказалась привязана тесемками.
— Руки, — сказал пленник слабым голосом, и добавил какое-то арабское слово.
Гостемил вынул кинжал и разрезал веревки, стягивавшие руки пленника до предплечий. И повел в спальные помещения в обход крога. Навстречу им выбежали возницы и Нимрод.
— Брысь, — сказал им Гостемил.
— Болярин! — взмолился Нимрод. — Мы тут думали…
— Я вас не за думы при себе держу, думать вам не положено. Убирайтесь.
Заведя пленника в спальню, он задвинул засов, сбросил сленгкаппу, стащил бальтирад вместе с подаренным ему воеводой свердом, и сел на ложе. Пленник стоял перед ним, руки висели безвольно по бокам.
Затем одна рука потянулась к шапке. Тесемки не слушались — запутались. Гостемил снова встал, сжимая зубы, чтобы не крякнуть — он устал. Кинжалом — пленник отшатнулся, и Гостемил схватил его за плечо — он разрезал тесемки. Темно-коричневые волосы, слипшиеся от подсохшего пота, подстриженные скобкой, упали вниз, не достав двух пальцев до плеч. Несмотря на то, что ростом пленник превосходил среднего мужчину, в плечах был широк, осанкой прям, стоял, расставив ноги, видно было, что он — женщина.
Гостемил рассматривал странную женщину, сидя на ложе, прищурив глаз. А женщина рассматривала его.
— Даже не знаю, что бы тебе такое сказать, — в конце концов признался он. — Говори ты, раз уж начала.
— Я дочь Зибы.
— Это-то понятно.
— И… — последовала арабская фраза, которую Гостемил для своих целей интерпретировал как «судя по всему», — твоя дочь.
— И зовут тебя Ширин.
— Да.
— А брата твоего — Шахин.
— Да. Знаешь, что значит это слово?
— Нет. Скажи.
— Сокол.
Гостемил чуть приметно улыбнулся.
— Тебе смешно? — спросила она.
— Нет.
— Почему улыбаешься?
— Просто так. Вы, стало быть, близнецы?
— Да.
— Расскажи мне про Зибу.
— Зибу убили.
Гостемил вздохнул.
— Сперва, — объяснила Ширин, — как только мы родились, отец огорчился.
— Почему?
— Мы были желтые.
— Желтые?
— С желтыми волосами. И он понял, что Зиба изменила ему. Но он ее любил, и не стал ее убивать, а продал в… каниз…
— Что это значит?
— В холопки.
— В рабыни, — поправил Гостемил.
— Да. Но потом рассердился пуще, выкупил ее, и убил.
Суровое обращение с женщинами, подумал Гостемил, наверное бывает полезно в общественном смысле. Дела делаются лучше, когда женщины не болтаются под ногами и не мешают. С другой стороны, когда они не мешают и не болтаются — как-то скучно, наверное. У них там на востоке и на юге вообще скучно всегда. Поэтому многие ходят злые.
— А как его зовут?
— Этого я тебе не скажу.
— Почему?
— Потому что это было бы предательством. А я никого не предаю. Никогда.
— Да, — согласился Гостемил, — так оно, наверное, интереснее, когда никого не предаешь.
Она нахмурилась.
— Не понимаю.
— Это не очень важно. А с вами что сталось? С тобою и братом?
— А нас он не полюбил.
Она замолчала. И Гостемил понял, что она может так стоять и молчать еще лет семь.
— И что же? — спросил он.
— Нас отдали на воспитание в семью…
— Хорошую, надеюсь?
Она не поняла вопроса.
— Чью семью?
— Одного уважаемого человека. Но он тоже нас не полюбил.
— Ширин, ты сядь.
— С тобой рядом?
— Да.
— Никогда.
— Почему же?
— Я пленник твой. Пленники не сидят рядом с врагами.
— О, бовина санкта, — пробормотал Гостемил.
Он встал, подтянул к ложу ховлебенк, и сел на него верхом. Спину и бедра ломило от усталости.
— Теперь сядешь?
— На ложе врага?
— Ширин, послушай, — сказал он устало. — Что нужно сделать, какое чудо сотворить, чтобы ты не стояла колонной дорической посреди комнаты, а сидела — на ложе, на ховлебенке, на полу?
Она недоверчиво и зло на него посмотрела.
— На пол можешь сесть?
— На пол могу.
Гостемил еще раз поднялся, подошел к очагу, кинул в него четыре полена, развел огонь.
— Садись на пол здесь, возле огня, сейчас будет тепло. Кто научил тебя так резво болтать по-славянски?
Она села на пол у очага. Ничего не ответила. А ведь мне нельзя даже задремать, подумал Гостемил. Она меня тут же зарежет. Мне всегда хотелось иметь дочь, признался он самому себе.
— Завтра мы освободим твоего брата, — пообещал он ей, подталкивая ховлебенк к очагу.
— Освободим?
— Да.
— А меня? В… рабство?
— Ты что, какое рабство. Ты моя дочь. Как же я дочь свою — в рабство?
— Сам будешь ети? — зло и с презрением спросила она.
У Гостемила округлились глаза.
— Ты, Ширин, шутишь так, что ли? Я — собственную дочь… Ты что!
— Мать нашу ты насиловал, так почему не дочь?
— Постой-ка. Я? Насиловал Зибу?
Она не ответила. Скривила презрительно упрямые пухлые губы.
— Постой, постой. Получается, что… он… продал жену в рабство, а потом и убил, за то, что ее изнасиловали?
— За осквернение неверным.
— О!
— Это справедливо.
— Чем справедливо, Ширин?
— Женщине должно умереть, но не позволить неверному себя осквернить. И если ты до меня дотронешься, я тебя убью. А потом себя.
Убей лучше моего повара, а то он зануда и бездельник, хотел было сказать Гостемил, но не сказал, вовремя сообразив, что просьбу могут воспринять всерьез.
— Ширин, — сказал он. — Я похож на человека, который насилует женщин?
Она поняла вопрос превратно.
— Ты и есть человек, который насилует женщин.
— Я не насиловал твою мать!
— Правда? — она улыбнулась, с еще большим презрением. — А мы у нее появились просто так, или, как у неверных заведено — непорочным зачатием?
— Мы случайно встретились в Константинополе и провели вместе неделю. Никто никого не принуждал!
— Ты лжешь, — сказала она, и Гостемилу захотелось дать ей пощечину. — Моя мать не могла добровольно иметь сношения с неверным.