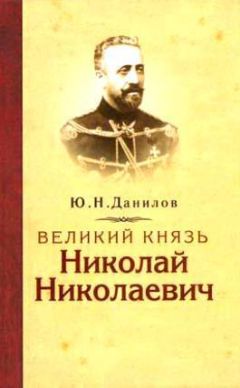Любое упоминание о лагерях сразу же наводило на нежелательные размышления и неизбежно влекло за собой целый ряд опасных вопросов: как могло случиться, что в «стране победившего социализма», где впервые была осуществлена не «буржуазная лжедемократия», а подлинная народная демократия, где были уничтожены эксплуататоры и частная собственность, где власть перешла в руки народа, — в концлагерях оказались миллионы ни в чем не повинных людей, а в следственных тюрьмах применялись средневековые пытки? Постановка этих вопросов подрывала основы всей советской системы как таковой, и поэтому лагерная тема очень быстро оказалась запретной. Писателям было сказано, что «ошибки» Сталина уже преодолены, что вопрос этот уже исчерпан и возвращаться к нему больше незачем. А «лагерная тема» благополучно перекочевала в самиздат.
В начале 1960-х гг. в самиздате стали распространяться «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, поэта и писателя, проведшего в лагерях двадцать лет. Это была подлинная энциклопедия лагерной жизни. Если в романах Солженицына главное внимание сосредоточено на внутренней жизни заключенных, лагерная тема берется более в ее моральном и философском аспекте, то у Шаламова читатель нашел документальное бытописание лагерной жизни, обстоятельный рассказ о том, как жили, страдали и умирали люди в советских лагерях.
Здесь читатель впервые зримо увидел изможденных, одетых в рваное тряпье, грязных, вшивых советских заключенных с кровоточащими цинготными беззубыми деснами, с шелушащейся от пеллагры кожей, с черными отмороженными щеками, копающихся в мусорных кучах в поисках каких-нибудь съедобных отбросов, постоянно избивамых конвоирами, бригадирами, старостами, нарядчиками, дневальными и больше всего, конечно, «блатарями»[225].
При чтении рассказов Шаламова проходят перед глазами сотни людей: юноши и старики, прославленные ученые и неграмотные крестьяне, рабочие, в свое время делавшие революцию, и украинские или литовские националисты, боровшиеся с оружием в руках против распространения этой революции на их земли, солдаты и офицеры, попавшие в плен во время войны и затем прямо из немецких лагерей переправленные в советские; проститутки и интеллигентные изящные женщины, арестованные вместе с мужьями как члены семьи «врага народа», — многоликая, пестрая толпа несчастных, попавших под колеса железной машины — государства.
Борис Пастернак и Василий Гроссман: пленники судьбы
Историческим событием стал роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», над которым автор работал с конца 1945 г. После долгих десятилетий молчания, когда русская литература фактически прекратила свое существование и сводилась лишь к скучным, казенным иллюстрациям партийных резолюций, вдруг раздался смелый голос. В одной книге и в одной человеческой жизни оказались совмещены разные и непохожие миры: старая Россия, Москва просторных интеллигентских домов с их хлебосольством, размахом, широтой, крепким здоровым бытом, основанным на веками освященных традициях, — и нынешняя советская Россия с «жилплощадью», трудовыми книжками, очередями в магазинах, проработками на собраниях и резолюциями, подозрительностью и страхом, жизнь с совсем иными масштабами и формами человеческого общежития[226].
Логика революции, говорит Пастернак, с ее насилием и нетерпимостью, к сожалению, ведет, как правило, совсем не к тому, чего хотели достичь. Подобно тому как человек не есть лишь физико-химический агрегат, так и жизнь общества человеческого не есть лишь производственные отношения и борьба классов. Упрощение жизни, ее примитивизация, стремление переделать ее по заранее составленным схемам ведет лишь к насилию над жизнью, за что она мстит своим тиранам, обманывая их надежды и приводя их к неожиданным жутким результатам. «Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование — это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий».
Восторгом перед жизнью, ее тайнами и красотой, ее непостижимой сложностью и гармонией исполнен весь роман. Это как бы поэтический гимн жизни. «Историю никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет, — говорит нам Живаго. — Войны, революции, цари, Робеспьеры — это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много — годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту…». И как горький итог глубоких размышлений над нашей русской историей звучат слова доктора Живаго: «Я был настроен очень революционно, а теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром»[227].
Судьба этого «независимого и заведомо неподцензурного» (С. Волков) произведения и самого Пастернака оказалась трагичной. 23 октября 1958 г. ему присуждена Нобелевская премия, а уже 25 октября «Литературная газета» разразилась большой редакционной статьей «Провокационная вылазка международной реакции». Советская пресса обрушила на писателя поток ругательств, но даже не попыталась провести серьезный анализ романа и показать, в чем именно Пастернак неправ.
Аргументы сводились к следующему: Пастернак дал «в руки агентов холодной войны литературный материал антисоветского, антинародного свойства»; «Пастернак в своем романе откровенно ненавидит русский народ», «в нашей социалистической стране, охваченной пафосом строительства светлого коммунистического общества, он — сорняк»; «роман «Доктор Живаго», вокруг которого поднята пропагандистская возня, обнаруживает только непомерное самомнение автора при нищете мысли, является воплем перепуганного обывателя»; «место Пастернака на свалке».
Секретарь ЦК ВЛКСМ В. Семичастный, выступая на многолюдном собрании, назвал Пастернака свиньей, на таком же уровне проходили и выступления советских писателей во время обсуждения романа Пастернака в Союзе советских писателей: «герои этого романа прямо и беззастенчиво проповедуют философию предательства»; «роман является апологией предательства»; «Пастернак окончательно разоблачил себя как враг своего народа и литературы»; «должна быть проведена очистительная работа, все мы должны понять, на какую грань нас может завести сочувствие к эстетическим ценностям, если это сочувствие идет за счет зачеркивания марксистского подхода»; «роман о докторе Живаго — плевок в наш народ»; произнести имя Пастернака — «это то же самое, что неприличный звук в обществе». Подобные аргументы противников, пожалуй, красноречивее любой защиты говорят, на чьей стороне правда[228].