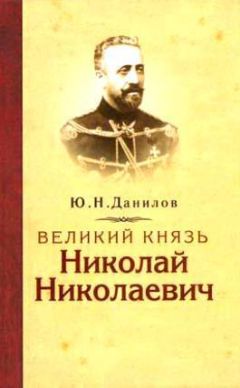31 октября состоялось общемосковское собрание писателей. Открывая его, один из «вождей» писателей, Сергей Смирнов говорил:
«Нам, московской организации, нельзя пройти спокойно мимо этого тяжелого факта предательства, которое произошло в нашей среде.
Мы все знаем Б. Пастернака — некоторые лично, некоторые понаслышке. И я был бы неправ, если бы сказал, что Б. Пастернак — это тот поэт, которого знает наш советский народ. Нет поэта более далекого от народа, чем Б. Пастернак, поэта более эстетствующего, в творчестве которого так звучало бы сохранившееся в первозданной чистоте дореволюционное декадентство. Все поэтическое творчество Пастернака лежало вне настоящих традиций русской поэзии, которая всегда горячо откликалась на все события в жизни своего народа.
Узкий круг читателей был уделом поэта и узкий круг друзей и почитателей, окружавший его в нашей литературе. И этот узкий круг друзей — почитателей Пастернака постепенно создавал ему какой-то ореол, и приобрела весьма широкое хождение в нашей среде легенда о Пастернаке. Легенда о поэте, который является совершенно аполитичным, этаким ребенком, в политике ничего не понимающим, запершимся в своем замке «чистого искусства» и создающим там свои талантливые произведения. Говорили, что это человек глубоко аполитичный, но вполне лояльный с Советской властью, даже пытавшийся что-то отразить в своем творчестве из борьбы своего народа, хотя эти попытки — это ничтожная часть его творчества. Наконец, они говорили, что это глубоко порядочный человек, это старый интеллигент с его особой, исключительной порядочностью.
Роман, где вся система образов подобрана так, что все мало-мальски светлое, освещенное интеллектом гибнет, задавленное, растоптанное силами революции, и остаются только люди тупые, низкие, алчные, жестокие. Вся система образов этого романа подобрана именно так. Роман, где вся борьба народа в годы революции и гражданской войны за светлые идеи Октябрьской революции представлена только как цепь жестокостей, казней, интриг вождей. Цепь несправедливостей — вот как все это изображено. Я был оскорблен не только как советский человек, я был оскорблен и как русский человек, потому что ни одного светлого образа из среды русского народа не преподнес Пастернак в своем романе. Все эти образы страшные, жестокие, и у читателя остается чувство оскорбления национального достоинства».
Не менее важным культурным событием был и роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» (1955–1963). Когда Гроссман писал его, многие еще пытались осмыслить сталинизм как самостоятельное явление, особый период, связанный с личностью Сталина, отрывая его от предшествовавшего ленинского периода. Интеллигенция осуждала Сталина, но стремилась спасти Ленина, отделяла его от сталинских преступлений.
Ветеран партии из Ленинграда Д. Лазуркина, выступая в 1961 г. на XXII съезде партии в поддержку предложения убрать мумию Сталина из Мавзолея, говорила:
— Я считаю, что нашему прекрасному Владимиру Ильичу, самому человечному человеку, нельзя быть рядом с тем, кто хотя и имел заслуги в прошлом, до 1934 года, но рядом с Лениным быть не может. Я всегда в сердце ношу Ильича. Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: «Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии»[229].
Именно против этого обожествления Ленина и выступает Гроссман: последние главы романа посвящены развенчанию вождя. Писатель без обиняков объявляет Ленина диктатором, душителем свободы, задушившим всю некоммунистическую прессу, «ликвидировавшим все революционные партии, кроме одной, казавшейся ему самой революционной, ликвидировавшим Учредительное Собрание, представительствовавшее от всех классов и партий послереволюционной России». Дело здесь не в характере Ленина, ненависть и нетерпимость были свойственны в той или иной мере всем революционерам. Но это были не их личные черты, не черты их характера, а черты, глубоко коренящиеся в самой природе революционного насилия, черты, присущие, если можно так сказать, самой психологии революции.
«Сердца этих людей, заливших землю большой кровью, так много и страстно ненавидевших, были детски беззлобны, это были сердца фанатиков, быть может, безумцев. Они ненавидели ради любви». Но диалектика ненависти-любви, свободы-нетерпимости привела к тому, что то, что казалось главным — цель, идеальное общество, — оказалось вдруг поглощенным второстепенным — насильственными средствами, бесчеловечной нетерпимостью на пути следования к идеалу. «Государство, казавшееся средством, оказалось целью. Люди, создавшие это государство, думали, что оно средство осуществления их идеалов. А оказалось, что их мечты, идеалы были средством великого грозного государства. Государство из слуги обратилось в угрюмого самодержца». И великие сталинские стройки коммунизма, на которых легли костьми множество заключенных, оказались нужны не людям, не народу, а страшному молоху-государству.
Гроссман подходит к главному вопросу: был ли массовый террор необходимым и закономерным следствием советской системы, созданной Лениным, или же он был «бессмысленным проявлением бесконтрольной и безграничной власти, которой обладал жестокий человек». Писатель отвечает: массовый террор, пролитая кровь были необходимы диктатуре, новому государству, насильственная противоестественная тоталитарная система могла удержаться только с помощью постоянного подавления недовольства населения, с помощью массового террора и погашения любого проявления свободы. «Без этой крови государство бы не выжило. Ведь эту кровь пролила несвобода, чтобы преодолеть свободу».
Гроссман закончил свой роман в октябре 1960 г. и отдал рукопись в журнал «Знамя». Там, на заседании редколлегии, в котором участвовали и руководители Союза писателей, роман отвергли «как вещь политически враждебную», о чем было доложено в ЦК КПСС. Автор был предупрежден, что должен «изъять из обращения экземпляры рукописи своего романа и принять все меры к тому, чтобы рукопись не попала во вражеские руки». В феврале 1961 г. к нему явились с ордером на обыск и забрали все остальные экземпляры рукописи, черновики, даже подготовительные материалы — все это затем бесследно исчезло, видимо, было уничтожено. Гроссман обратился с письмом к Хрущеву, требуя, чтобы ему вернули рукопись: «Эта книга мне так же дорога, как отцу дороги его честные дети. Отнять у меня книгу — это то же, что отнять у отца его детище… Нет смысла, нет правды в нынешнем положении, — в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал жизнь, находится в тюрьме, — ведь я ее написал, ведь я не отрекаюсь от нее». Через несколько месяцев его принял М. Суслов, он подтвердил, что и речи не может быть о возвращении рукописи автору и публикации романа. Гроссману приклеили ярлык «внутренний эмигрант». Его отказывались печатать.