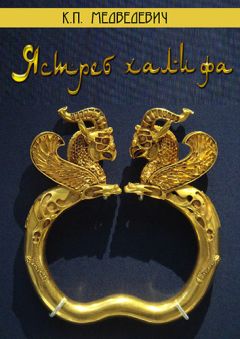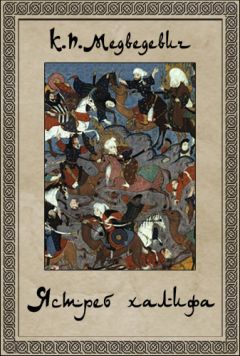— Я помогу тебе отобрать людей для похода, — усмехнулся старый вазир.
— Ты не знаешь цели моего похода, — спокойно отозвался Тарик.
— На все воля Всевышнего — но иногда случается так, что стрела, выпущенная по куропатке, попадает в твоего сокола. А еще случается так, что, желая спугнуть куропатку, попадаешь ей в глаз.
— И все же ты многого не знаешь, — покачал головой нерегиль и стал подыматься с грязной старой подушки.
— Я знаю достаточно, — и Исхак мягко остановил его, взяв за расшитый край рукава. — Тебе приказано привезти почтеннейшего шейха в столицу.
— Да, — Тарик кивнул.
— Халиф Аммар ибн Амир не может отдать другого приказа. Орден Джамийа вот уже более столетия находится под покровительством халифов: ведомство абиса[29] перечисляет суфиям в Ар-Русафа и аль-Андалусе миллионные пожертвования верующих и передает им имущество тех, кто умер в нечестии, дабы дервиши молились за души грешников. Шейх Ахмад и-Джам унаследовал хирку самого Гилани, шейха Востока и Запада, чья нога попирала шею каждого святого, — а ведь шейху не было еще двух месяцев от роду, когда завещание Гилани вступило в силу. Все настоятели обителей Джамийитов пожалованы шароварами футувва — верных служителей престола. Вот почему наш повелитель — да умножит Всевышний его годы! — приказал тебе привезти почтеннейшего шейха живым и невредимым.
— Как драгоценную вазу, — мягко поправил Тарик, не изменившись в лице.
— Но это невозможно, — глава тайной стражи развел руками.
Нерегиль прищурился. А вазир улыбнулся:
— Шейх не последует за тобой, как породистая верблюдица за вожаком стада. Тебе придется принять бой. Только так ты сможешь захватить его живым.
Нерегиль молча, не шевелясь, смотрел на него.
— Ах вот оно что, — нахмурился ибн Хальдун.
Помолчав, вазир мрачно покачал головой:
— За такое ты легко не отделаешься. Ослушника подвергают суровой каре. Я не хочу расставлять людей в толпе, которая сбежится к мосту через Тиджр, чтобы посмотреть, как тебя подвешивают на срединной перекладине.
Тарик лишь пожал плечами.
— Ты не знаешь, на что идешь, — тихо проговорил ибн Хальдун. — Тебя не казнят — если ты на это надеешься. Убить тебя не позволяет Договор — ты же подарен нам ангелами. Но тебе от этого, самийа, будет только хуже — поверь мне.
Нерегиль молча отвернулся.
— Я хочу оказать тебе услугу, — вазир легонько наклонился вперед и заговорил очень, очень тихо. — Возьми и-Джама живым. А по дороге… он умрет.
— Ты ничего не знаешь об и-Джаме, — спокойно отозвался Тарик, продолжая глядеть в ночное небо окна.
— Чего же, интересно? — вазир начинал злиться — в конце концов, если сумеречнику не терпелось попасть в застенок Веселой башни, а потом на перекладину моста — что ж, воля его, а его, Исхака, терпение, уже начинало истощаться. — Он травит своих учеников гашишем, и они выполняют любой его приказ, — это что, тайна?
— Для того, чтобы заставить любого из вас — в том числе и тебя, Исхак, — выполнить любой свой приказ, и-Джам не нуждается в гашише, — бесстрастно ответил сумеречник.
Тут ибн Хальдун расхохотался:
— Ты что же, веришь этим простонародным россказням о тасарруф?[30]
— А ты нет? Айша тоже не верила в призраков Красного замка, — усмехнулся нерегиль.
Вазир досадливо поморщился: называть женщину эмира верующих по имени считалось вопиющим нарушением этикета. И жестко ответил:
— Я знаю многих из орденов Халветийа и Хеддава, достойных шейхов, десятилетиями живующих в аскезе и строгости, в посте и молитве, — и ни один из них не подтвердил мне, что тасарруф и таваджжух,[31] химмат[32] и передача барака[33] совершаются суфиями. Более того, они говорят, что даже упоминание таких вещей ведет к язычеству и оскверняет молитву.
— У тебя на редкость приличные знакомые, Исхак, — недобро улыбнулся Тарик. — И они сказали тебе сущую правду. Но запомни, человек: все, что ты перечислил, делается дервишами ордена Джамийа и их шейхом. Только называется все это иначе, и гораздо короче.
— И как же? — мрачно поинтересовался вазир.
— Черная магия, — отрезал Тарик. — Он одержимый, этот ваш Ахмад и-Джам. И я не смогу его захватить живым. И даже если смогу, твои люди не смогут его убить, Исхак. Потому что шейха Джамийитов уже нельзя убить простым оружием.
Старый вазир надолго замолчал.
В комнате слышались лишь потрескивание светильника в нише, да шорохи из-за занавески, за которую забились женщины. Сабит с сыновьями давно пали на свои лица и не шевелились, ожидая, когда господин вызовет своих людей, и те свяжут всех одной веревкой и поведут к Тиджру.
— Что скажешь, о ибн Ахмад? — наконец тихо спросил он кого-то, кто сидел у стены за спинами слуг.
Командующий Правой гвардией поднял голову и отвел от лица широкий край чалмы:
— Я полагаю, что сейид знает, что говорит. Если сейид говорит, что здесь замешаны чернокнижники, значит, так оно и есть. По правде говоря, я и сам подозревал нечто подобное. Обычному человеку было не под силу одолеть моего почтенного дядю.
Нерегиль широко раскрыл изумленные глаза, и Исхак ибн Хальдун почувствовал себя польщенным. Хасан ибн Ахмад тоже заметил удивление Тарика и пояснил:
— Почтеннейший Саубан ибн Ибрахим по прозвищу Зу-н-Нун приходится мне дядей по матери. Теперь, когда джамийиты нанесли оскорбление нашей семье и убили старшего дядю, трех двоюродных братьев и всех шестерых племянников, наш род будет мстить. Ты окажешь мне честь, сейид, если примешь меня и двух моих сыновей в свой отряд. Я приведу тебе пятьдесят копий, и — клянусь Убивающим! — мы будем свирепы в битве и верны тебе.
— Все, кто пойдет за мной завтра утром, рискует головой, — сказал Тарик. — Ты готов пойти на смерть ради мести, о Хасан?
— Все, кто пойдет за тобой завтра утром, рискуют больше, чем головой, — ответил командующий Правой гвардией. — Вот почему мы уже переправили свои семьи в земли Бану Марнадиш, подальше от столицы. Жить нам или умереть — на все воля Всевышнего. Все мы пыль на Его пальцах, о Тарик. Но пыль бывает разная — бывает из камня, а бывает из дерьма.
— Хорошо сказано, — наклонил голову нерегиль.
— Я буду молить Всевышнего о вашей победе и, если повелитель верующих прикажет вам есть хлеб мертвых, о быстрой смерти, — вздохнул ибн Хальдун. — Я говорил с тем мальчиком-ханеттой, Саидом. Он возьмет свою сотню — они молоды и горячи, и каждый из них желал бы умереть, как шахид. А уж какая смерть им достанется — на все воля Всевышнего. Он милостивый, прощающий…
Все сидевшие в комнате ашшариты провели ладонями по лицу и склонили головы.
— Сабит, — старый вазир повернулся к своему слуге. — Ты многое услышал этим вечером, и многое из того, что ты слышал, тебе не следовало слышать никогда.
Из-за занавески донеслись сдавленные рыдания и всхлипывания. Ибн Хальдун холодно усмехнулся и сказал:
— Однако я помилую тебя и твою семью. Двое твоих мальчиков отправятся с Тариком. И старшая дочка тоже — она будет сопровождать каида ханаттани. В походе воинам нужны слуги и утешение. Я дам им мулов и новую одежду. И они будут служить сейиду верно и на совесть.
— Милосердием ты воистину подобен праведному царю Дауду, о господин, — всхлипнул Сабит, и все семейство разразилось счастливыми слезами радости и благодарности.
Каждый раз, просыпаясь, Айша видела лишь качающуюся тень бахромы пальмовых листьев на занавеси входа. Она прислушивалась к спокойному дыханию Аммара — он спал совсем как ее младшие братья после тяжелого дня — запрокинув голову и чуть похрапывая. Ночи в Ас-Сурайя походили на ночи дворца Куртубы — тихие, мирные, лишь изредка слышался сладкий женский вскрик, и ему вторил веселый смех юных голосов. Где-то далеко-далеко, за внутренней стеной, в садах слуг-худжри, перекликались бостанджи.
Ухватившись за большую ладонь мужа, Айша снова смежила веки. И вот тут-то к ней пришло то, чего она боялась больше всего.
…Ей уже приходилось видеть эту комнату, и она знала, где это. Замурованный нынче покой на самом верху Факельной башни. Голые стены, маленькое окошко, забранное резной каменной решеткой. И еще одна решетка — узорная, кованая — перегораживает выход из комнатки. На вытертом ковре, среди пузатых, обтянутых ковровой тканью подушек, сидел рослый, заросший густым черным волосом мужчина. Густой мех курчавился в распахнутом вороте соуба, на мощных ногах и в паху.
Две пожилые невольницы в простом некрашеном платье раздевали стоявшую посреди комнатки женщину. Айша пугалась этого больше всего: когда сумеречница стояла к ней спиной, ей было отчетливо видно то, чего, похоже, не видел больше никто — ни Сахль, ни рабыни. Крылья. Длинные, белые, изгибающиеся мощными маховыми костями от лопаток. Снующие руки невольниц проскальзывали сквозь бестелесное оперение и опушку на спине, и женщина тогда сжимала кулаки — и кинжально-острые белоснежные маховые перья грозно расходились в напряжении ярости.