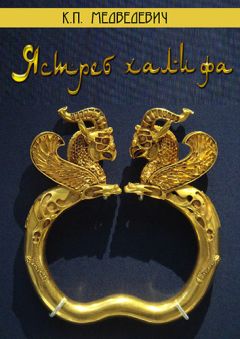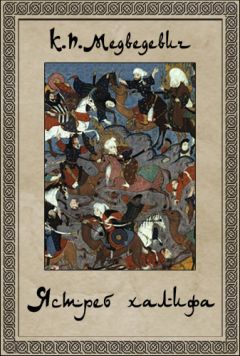Рабыни трудились над пряжками кожаного панциря и бронзовыми наручами — дрожащими пальцами они снимали с сумеречницы окровавленный доспех. На перьях не было ни капли крови, зато рассыпавшиеся из прически волосы слиплись во влажные пряди.
— Ооо, я люблю, когда ты такая… еще горячая… — проговорил мужчина на подушках и положил себе руку между ног.
Напряженный айр туго натягивал ткань соуба.
— Снимите с нее шальвары.
Трясясь от страха, рабыни спустили ткань с бедер, и женщина, раскрывая маховые перья и прижимая острые уши, выступила из лежавшей на полу одежды.
— Иди, иди ко мне, — облизнув губы, пробормотал Сахль и махнул невольницам — вон, прочь отсюда.
Пока те пятились к выходу, Сахль приказал:
— Подними подол. Выше. Я сказал выше. До пупа подними, сука. Вот так. Теперь садись на меня. И смотри, будь повеселее, горячей будь, а то снова пропущу через гулямов, чтоб тебя как следует разогрели. Вот так, дда… ффф… все твое, да… Теперь давай, двигайся, двигайся, да, да, быстрее, сука, шевелись, ддааа…
Жуткие, белеющие страшным нездешним светом крылья медленно раскрылись в обе стороны. Ореол подымавшейся и опускавшейся на бедрах Сахля женщины заиграл светом такой страшной, ослепительной ярости, что сердце Айши не выдержало и она закричала
…- Нет, нет! Прекратите! Прекратите! Она всех убьет, прекратите это! Ааааа!!!
— Айша! Айша, проснись!..
Давно ей ничего не снилось, да что ж такое, никак не разбудишь:
— Айша! Айша! Проснись!… Сальма, дай сюда воды!
И они начали в четыре руки брызгать в лицо плачущей и кричащей женщины. Айша кричала с открытыми глазами, заходясь и всхлипывая.
— Дай кувшин! — Аммар налил себе воды в руку и резко обмыл жене лицо.
Айша всхлипнула, икнула и вдруг посмотрела осмысленно.
— Хабиби, тебе что-то приснилось…
А она огляделась кругом, увидела их испуганные лица и вдруг разрыдалась еще пуще:
— О мой господин! О господин! Простите меня, о простите меня!
Во время таких приступов оставалось лишь прижимать ее к себе и гладить — по волосам, по спине, по пахнущему цветами затылку.
Кивнув Сальме — иди, мол, — Аммар дождался, когда всхлипы стихнут. Легонько отстранив женщину от себя, заглянув в лицо и взглядом спросил: хочешь? Айша отрицательно помотала головой:
— Прости, не сейчас…
Аммар улыбнулся и кивнул. Вечером она, раз за разом, вставала как львица над воротами и измотала его так, что он уже начал задумываться: а вдруг легенды об Асме — не совсем легенды? Рассказывали, что Низар ибн Маадд покупал в харим евнухов только из зинджей — ибо чернокожие невольники из Южной Ханатты издавно славились длиной своих айров. Говорили, что после купания Асму ублажал огромный рог зинджа, а уж потом к ней входил халиф.
Аммар улыбнулся своим дурацким мыслям и погладил свернувшуюся у него под боком жену. Скоро рассветет. Если все будет как два дня назад, он снова пропустит утренний прием посетителей. Аммар улыбнулся еще шире. Тогда Айша разбудила его — и он сначала даже не понял, в чем дело. В первый раз в жизни женщина без дозволения и приказа позволила себе дотронуться до его тела. Когда он осознал, что сладкая боль в паху — она от того, что чей-то острый язычок гуляет вокруг его соска, а чья-то маленькая ладошка трудится ниже, Аммар ахнул было от возмущения — но его губы тут же запечатал напряженный рот с тем же острым язычком. Исследуя то, что таилось под движущимся маленьким жалом, язык Аммара вдруг коснулся какой-то новой, возбуждающей до острой боли влаги. Вверх по животу дернуло такое жгучее желание, что закружилась голова. Айша со стоном выгнулась в его руках, словно слюна из легендарной подъязычной железки сумеречников отравила и ее кровь — и он, ахнув и крикнув, повалил ее на простыни и ворвался в нее так, словно позади были не восемь ночей наслаждения, а год воздержания. Истощив взаимный пыл, они выбрели во двор к фонтану и обнаружили, что солнце уже близится к полудню.
Подсвеченная факелами темень за занавесью стала сереть. Айша пошевелилась и вдруг опрокинулась на спину. Изогнулась, как кошка, желающая, чтобы ее погладили, встретила взгляд не спящего Аммара и улыбнулась, показывая между полными губами влажные зубы. И просительно сощурилась и замурлыкала, изгибаясь, раскрывая колени, ловя его ладонь — он почувствовал, как под рукой набухает и крепнет маленький сосок на твердой круглой груди.
— О хабиби, мне так одиноко, любимый, иди ко мне, утешь меня, о хабиби, ну скорее, любимый, ах, и левую тоже, а теперь снова правую, ну где же ты, ах…
Куртуба,
пять дней спустя
…- Подходите, подходите, о правоверные! Хуфайз Термизи почтил своим присутствием Куртубу, да пребудет на всех нас его благословение! Дорогу, дорогу почтеннейшему факиру,[34] - а ты прочь, фокусник, прочь, шарлатаны, позорящие великое имя бедности! Ваше место в аду, проклятое племя!
Дервиши своими посохами прокладывали себе путь в теснящейся на базарной площади толпе. Торгующие раболепно кивали, спешили положить в несомые муридами корзины свои товары: хлеб, хурма, сливы, наливные губинские яблоки, пироги с бараниной, свежая зелень — все ложилось в ивовые плетенки с крепким дном.
— Пустите! Пустите нас! Клянусь Всевышним, мы ничего не сделали! Мы ни в чем не виноваты!..
В руках гвардейцев в роскошных золотых халатах Умейядов надрывался молоденький парнишка — смуглый, как ханетта, худой и верткий, как и положено канатоходцу. Его торс был намазан маслом и оттого блестел на солнце, широкие алые шелковые шальвары пылали ярким цветом на золотом фоне сомкнувшейся гвардии — один из воинов неспешно подошел к юноше и закованной в латную перчатку рукой залепил тому оплеуху. Из носа мальчишки брызнула кровь, все захохотали. Гвардеец фыркнул:
— Завтра ты попляшешь на другой веревке, сучье семя, язычник…
В толпе засмеялись еще пуще, показывая пальцем на окруженную стражей жалкую толпу тех, кого называли "племенем сасан": два фокусника из ханаттани, загорелых до черноты и худющих, в одних набедренных повязках и огромных чалмах, хлюпающий кровью мальчишка-канатоходец, два акробата-ханьца с косичками на затылке, раешник-ашшарит в заплатанном халате с бритой головой, видимо, его жена и мать в серых грязных покрывалах и три молодые девки-танцовщицы — в шелковых хиджабах и с лицемерно закрытыми лицами, но все-то знали, что, танцуя на помосте, сучки снимали химары и закрывали смазливые морды лишь бесстыже прозрачной тканью, и то до носа. А из всей одежды на плясуньях оставались лишь прозрачные — тьфу! — шальвары, да нагрудная повязка, да срамной платочек на губах.
Бродячие циркачи уже четыре дня веселили горожан на базарной площади, и вся Куртуба сбегалась посмотреть на то, как ханаттани дудочкой выманивают из корзинки кобру — ух злющую, с руку взрослого мужчины толщиной, капюшон величиной с чалму главного улема, — как кувыркаются и крутят волчки на тонких тросточках косоглазые ханьцы, как пляшут девки под бубен и дарабукку, тряся животами и поводя руками и густо накрашенными глазищами. Сбегались, чтобы, закидывая головы и обмирая, смотреть как по натянутой между балконами веревке идет ловкий парнишка в красных шальварах. Ну и, конечно, чтобы вдоволь посмеяться над куклами, вертящимися и болтающими над пестрой тряпкой райка — а уж что те куклы говорили, то и срамно передать. Толпа покатывалась со смеху и над старым купцом, чья молодая жена веселилась с молоденьким гулямом, — кукла, изображавшая бравого тюрка, не давала бабе спуску, — и над дервишем с огромным брюхом и важным голосом, изгонявшим злых духов из молоденькой дочки векиля[35] — "а теперь впустите меня к ней за занавеску! Подойди ко мне ближе, девица! Еще ближе! Нет, еще ближе! Ах, ах, уходи, злой дух! Слышите, правоверные, как девица кричит? Это все злой дух! Больно тебе? Это все злой дух у тебя между ног! Ах, ах! Ну как? Не больно уже? Ушел, сталбыть, злой дух! ничто не устоит перед барака суфия, ах, ах!" Ну и конечно выходила кукла в голубой чалме и в красных одеждах халифа, а следом за ней другая, с белым лицом, в черном кафтане и с длинным мечом: "а ну-ка, Тарик, слетай на небо, нырни в море, спустись в подземные норы, принеси мне что-не-знаю-что, а не то не сносить тебе головы! — Слушаюсь и повинуюсь, о мой повелитель!" И кукла рубилась с дэвами, освобождая из пещеры юную красавицу: "вах, Тарик, возрадовалось мое сердце, так и быть, живи пока, отрублю тебе строптивую голову в следующий раз!"
Но сегодня наместник Куртубы огласил указ-маншур: взять под стражу нечестивое племя сасан — ибо их бесстыжие представления противоречат установлениям ашшаритской веры. Говорили, что святой шейх Ахмад и-Джам лично запечатал письмо с жалобой градоначальнику, а в письме том, шептались люди, сказано было о всех тайных грехах старого шихны:[36] и о пристрастии к вину, и о слабости к смугленьким мальчикам из Ханатты, и даже о том, что наместник — тогда еще в должности градоначальника Кутраббуля — в смутные времена мятежа сносился письмами с эмиром Абд-аль-Вахидом и принимал от того подарки; в связи с чем шихна — да помилует его Всевышний! — приказал пытать всех своих катибов, но так и не дознался, кто выдал его тайны святому и-Джаму.