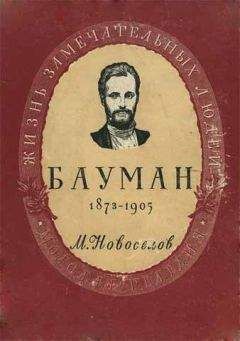Медников вскипел:
— Обвиняет меня? Я виноват в том, что тюремная администрация не видит, что у нее творится под носом?..
— Нос и у вас, насколько я могу заметить, есть, — окрысился внезапно таганский штаб-офицер. — Все дело идет отсюда-с, с воли. Без воли за решеткою ничего не могут сделать. К примеру, откуда эта вот бумажка? Не с воли?
Он вытащил малюсенький листок тонкой бумаги, сложенный узенькой ленточкой. Полковник поспешно развернул его:
— Шифр.
Медников нагнулся, в свою очередь, и подтвердил:
— Шифр.
Сверху записки была нешифрованная пометка:
"14 октября. Женева".
Полковник посмотрел на Медникова; во взгляде было все, кроме ласки. Тюремщик был безусловно прав: записка из Женевы могла попасть в тюрьму только с воли. Медников прошляпил вполне очевидно.
Он, впрочем, и не пробовал отрицать.
— Такие вещи не обнаруживаются без постоянной внутренней секретной агентуры. Я не скрою: пока у нас нет надежного осведомителя среди большевиков, работать приходится не с постоянным сотрудником, а со штучниками. Это не так надежно. А наружное наблюдение полных результатов, как известно, по самой природе своей не может дать. Но раз в тюрьме обнаружены передачи… — Медников кивнул на шифровальную записку, которую все еще крутил в руках полковник, — тем самым — есть уже нить…
— Черта с два! — перебил, наморщив нос, полковник. — Надо им воздать должное: они не такие разгильдяи, как наши агенты. Никаких нитей-с! Конечно, догадаться можно, что передача идет через уголовников. Никому из политиков мы не давали еще свиданий и не допускали передач. Значит-уголовники…
— Уборщики, наверно, — убежденно сказал Медников.
Таганский вздохнул:
— В уборщики назначаем исключительно из принявших на себя служебные обязанности по охранному, как вам известно. Вернее, на прогулке как-нибудь…
— А как же этот документ?
— Взят во дворе — видимо, кто-то обронил. От него следов нет: гуляла в этот день вся политическая тюрьма.
— Обронили? — недоверчиво переспросил Медников. — Что-то я по сю пору не слыхивал, чтобы политики такие документы «роняли». Смотрите, может быть, они нарочно подбросили: балуются,
Мысль, видимо, понравилась полковнику; он поднял вопросительно глаза на тюремщика. Тот мотнул головою уныло:
— Едва ли… А впрочем, от них всякого можно ждать. Вы себе представить не можете, что это за народ! Поскольку мы здесь, так сказать, между своими и обсуждаем общую, так сказать, беду — тут и моя и ваша доля, — я откровенно сознаюсь: у меня даже энергия упала. Никак не предусмотришь, какую выкинут штуку… Например, захожу к этому самому Бауману, о котором изволили вспоминать. Смотрю: свежепобритые щеки, безусловно-бритва, а парикмахера не было. У заключенных же персонально не только что бритвы, но вообще острых предметов в камере не допускается. А выбрит чисто. "Брились?" — говорю. Смеется: «Брился». — "Чем?" — «Бритвой». — "Где она?" Опять смеется: "Здесь"."Не может быть". — "Честное слово!" Натурально, командую сейчас же надзирателю: обыск. Три четверти часа, не поверите, лазили по камере, самого его обшарили до нитки. Нигде нет.
— Я так и подумал, — кивнул Медников. — Он нарочно сказал, в издевку. А бритву кто-нибудь принес и унес.
— Ежели б! — воскликнул тюремный. — У меня та же разумная мысль, естественно, явилась, что и у вас. Высказал и попрекнул в том, что он дал зря честное слово, чего от политического нельзя было ждать. "Я, дескать, понимаю, что вам забавно было заставить нас без малого час дураков валять, но в смысле моральном, так сказать, неудобно". Так что вы думаете! Нахмурился и говорит: "Честное слово я верно дал, а просто вы — идиоты! Бритва здесь". — "Не может быть! Покажите". — "А вы, — говорит, — вернете?" Меня, знаете, до того забрало не утерпеть. «Верну». — "Честное слово?" — говорит и, знаете, в глаза смотрит. "Честное слово офицера, — говорю. — Вот все они — свидетели". — "Ладно, говорит. — Выйдите все на минуту и к двери не подходите, пока я не стукну. А если глазок откроете, пеняйте на себя: за дальнейшее я не отвечаю". Вышли мы…
— И глазка не открыли? — насмешливо спросил жандарм.
— Не открыли. — Начальник скорбно опустил голову. — Вы не знаете этого Баумана: он отчаянный, от него всякого, даже самого страшного можно ждать. Минуты не прошло — стукнул. Вошли: бритва у него на ладошке. Взял, попробовал: отточена, хоть сейчас опять брейся.
Жандарм присвистнул тихонько:
— Действительно, здорово! Вы что ж, так и отдали обратно?
— Что вы! — с испугом отмахнулся начальник. — Конечное дело — нет.
— А он что?
Начальник отвел глаза:
— Да ничего, собственно… Так вообще… Бот я и говорю: в таких условиях прямо руки спускаются! Что ни делай — все равно они найдут средства. Собственно, единственно верное — как можно больше свободы дать: при свободе, знаете, наблюдение за собой они слабей держат, нет-нет и случится промашка. А тогда, при удаче, можно много чего узнать. Я поэтому и давал волю. Хотя мне еще три месяца назад надзиратели доносили, что у Баумана — переписка. И у других. И в женском корпусе.
— Действительно, много узнали! — съязвил Медников. — Переписка и дальше будет, очевидно, идти.
— Не думаю, — качнул бородой своей тюремный начальник. — Баумана я давно уже перевел в изолятор. Оттуда-ни постукать, ни поговорить: могила! Прогулок нет. И уборка через два дня в третий, при надзирателе. Опять же — уборщиков, что политических обслуживали, я арестовал.
— Вот это дело, — щурясь, проговорил Медников. — За нами их записали? Я их сам допрошу…
— Уже допрошены! — досадливо перебил полковник. — Я этим самолично занялся. Уперлись. Знать не знаем. Ничего из них не выбьешь.
Медников погладил левую ладонь правой:
— У меня скажут-с.
— С пристрастием, думаешь? — фыркнул полковник. — А я, по-твоему, что мармеладом угощал?.. Я говорю, ничего от них не узнаешь: варнаки. С него шкуру сдери — раз уж он уперся, не пикнет.
По Тверской вниз опрометью вроссыпь бежали люди. Издали, от Страстной площади, доносилась оружейная трескотня.
Козуба ухватил за плечо бежавшего навстречу рабочего:
— Что там?
Рабочий задохся от бега. Не сразу ответил:
— У Филиппова булочники бунтуют…
— Забастовка, знаю, — перебил Козуба.
Но парень махнул рукой:
— Бунт, говорю. Стреляют пекаря-то. В доме заперлись и лупят… Страсти. Войск нагнано! Кровь по всей улице…
Козуба выпустил плечо. Парень пошел дальше успокоенным, но все еще вздрагивающим шагом.