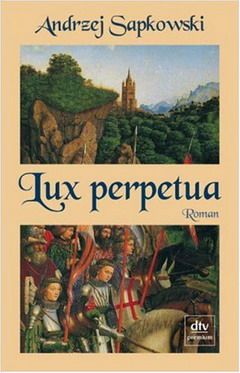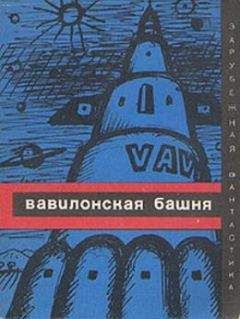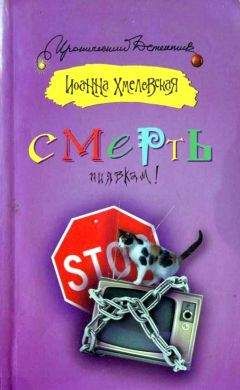– Это был святой Августин. Ты, как я понимаю, знал его лично. И меня это совсем не удивляет.
– Ты делаешь, Рикса, просто поразительные успехи.
– Не смейся надо мной, дибук.
Рысью примчался Шарлей, бросил на них суровый взгляд.
– Что это вы тут, – проворчал он, – за философские диспуты устроили, Самсон? Чехи начинают оглядываться. Держись, мать твою, принятого инкогнито.
– Извини, я забылся. А вот так подойдет? Я недавно выработал. Посмотрите.
Самсон изобразил страшное косоглазие. Глупо улыбнулся, как кретин застонал и пустил слюну из уголка рта. А наконец выпустил из носа пузырь. Когда он лопнул, выпустил второй.
– Ха! – С неподдельным восторгом закричала Рикса. – Ух ты, классно! А я умею изображать чуму. Плююсь кровью и пускаю сопли…
– А чтоб вас, – Шарлей с отвращением отвернулся. – Пойдем, Рейнмар. Оставим их с их играми.
– Шарлей?
– Да?
– Тот короткий самопал, из которого ты стрелял возле мельницы. Что это за странное оружие?
– Это? – Демерит продемонстрировал добытое из футляра у седла оружие. – Это, друг, пражское ружье, прозванное в народе «предательским».[231] Очень модная в Праге штука, все ее носят. Она, как видишь достаточно короткая, так что можно ее запрятать под плащом и воспользоваться неожиданно, по-предательски, отсюда и название. Фитиль, посмотри, вставлен в бронзовый курок, всё время может тлеть. При нажатии на спусковой крючок, заметь, что это можно сделать одной рукой, фитиль доходит до запала и – бааах! Хорошо, да? Прогресс, парень, совершается непрерывно.
– Кто бы спорил. Ты слышишь?
– Ничего не слышу.
– Вот именно. Бомбарды уже давно умолкли.
* * *
Они выехали из леса. С возвышенности перед ними открывалась панорама. Живописная излучина Бобра. И город на правом берегу.
– Перед нами Болеславиц, Верхние ворота, – показал Брус из Клинштейна. – Получается, что мы прибыли как раз вовремя. Город сдался.
Верхние ворота оказались разломанными, свисающие с петель остатки были обуглены, стена и башня – черные от копоти и потрескавшиеся от огня. Табориты применили здесь свой стандартный и испытанный способ форсирования ворот, состоящий в том, что их прожигали. Под воротами насыпалась куча дров, добавлялись несколько бочек смолы и дегтя, всё это поджигали и ждали результата. Обычно им была капитуляция. Как здесь и сейчас.
– Въезжаем. Рикса, а ты?
– Я здесь подожду.
– Кого? Чего?
Она не ответила, отвернулась. Шарлей фыркнул, потом бросил на Рейневана многозначительный взгляд. Видя, что Рейневан не реагирует, пришпорил коня и поехал за отрядом.
В городе царило спокойствие, хотя улицы, ведущие на рыночную площадь, были забиты вооруженными до зубов гуситами. Плотные отряды Табора тоже стояли на площади, вокруг ратуши. Сбившиеся под стенами домов горожане посматривали на агрессоров в тревожной тишине.
– Или Болеславец уже договорился, – оценил ситуацию Шарлей, – или сейчас будет договариваться. Нормально. Установят выкуп и контрибуцию в виде обеспечения и поставок для войска. Достигнут взаимопонимания. В противном случае здесь давно бы всё было в огне.
У самой ратуши в боевом порядке стояли с десяток боевых телег, из них торчали стволы хуфниц. Была среди них и штабная телега гейтмана, легко узнаваемая по трофейным священническим ризам, которыми были толсто обиты оба борта и вымощено внутри. Возле телеги стоял собственной персоной гейтман полевых войск Табора, Якуб Кромешин из Бжезовиц, одетый в украшенный золотой вышивкой кафтан и высокие сапоги из красной кожи. Его сопровождали Отик из Лозы, Микулаш Сокол из Ламберка и Вацлав Гарда, командир пражского контингента. И Смолик, проповедник с худым лицом, которого Рейневан помнил с прошлогоднего рейда.
Личная охрана их пропустила. Они подошли. Рейневан прокашлялся.
– Гейтман…
– Не сейчас! – Кромешин узнал его и явно удивился, но отправил жестом. – Не сейчас, медик!
Из ратуши показались городские посланники. Члены магистрата и горожане, ведомые тучным ксендзом в сутане и высоким бородачом в просторном, словно тога, плаще, задрапированном и снизу обшитом бобровым мехом. Плащ привлек внимание Рейневана: он был голубого цвета с тем неповторимым оттенком голубизны, который его убитый брат Петерлин получал в своей красильне из вайды и черничного сока.
Бородач и тучный священник стали перед Кромешным, поклонились. Бородач начал говорить. Говорил так тихо, что Рейневан, Шарлей и Самсон, стоящие в десяти шагах, понимали лишь каждое пятое слово. Но все, даже те, которые стояли еще дальше, понимали, о чем речь. Болеславец сдавался. Предлагал выкуп, лишь бы Табор их пощадил. Их сохранил от меча, а их дома – от огня. Все, даже те, который стояли дальше всех, увидели также рассвирепевшее лицо Кромешина. И услышали его голос. Его львиный крик.
– Сейчас? Вы сейчас хотите выкуп давать? Когда мы уже в городе? Когда вы в наших руках? Поздно, болеславяне, поздно! Вчера, когда я вас призывал сдаться, вы со стен высокомерно кричали мне в ответ. Вы помните, что вы мне кричали? Что-то там о Крацау, не так ли? Ну, я вам сейчас дам Крацау! Будете меня помнить, суки!
Бородач попятился на шаг, побледнел. Толстый ксендз, наоборот, казалось, готов был выцарапать гейтману глаза.
– Я знал, – завопил он, – что не о чем с ними говорить! Excaecavit illos malitia eorum![232] Тьфу, еретики! Святотатцы! Злодеи! Будете жариться в аду! Падет на вас кара Божья!
По сигналу Кромешина вооруженные табориты окружили делегацию, приперли советников к стене.
Гейтман полевых войск стал перед ними, сложив кулаки на бедрах.
– Сначала, – сказал он, – кара падет на вас. – Сейчас. Я вас покараю от Божьего имени.
– А нука, брат Смолик, – обратился он к проповеднику с худым лицом, – скажи им проповедь. Пускай, прежде чем они оставят эту юдоль, услышат голос Божьей правды. Спасения они и так не удостоятся, суки, римские холуи, прислужники вавилонского Люксембуржца. Но легче им будет попрощаться с этим миром.
Проповедник напрягся, как струна, набрал в легкие воздух.
– Это война Господа, – закричал он пискливым голосом. – Он отдал вас в наши руки! Вы ели хлеб беззакония и пили вино хищения,[233] пришел день кары. Вы провинились перед Богом, так что разметана будет кровь ваша, как прах, и плоть ваша – как помет.[234] Ты согрешил, коварный народ, ты гордо величался, преклонялся лживым идолам Рима, поэтому Бог одолеет тебя и отсечет тебе голову, как сделал Давид Голиафу. Бог крошит головы врагам своим, косматый череп того, кто поступает грешно!
– Славно, – оценил Кромешин. – Особенно про косматый череп. Хотя о плоти тоже было неплохо. Ну, парни, слышали? Брать их поочередно, как Бог повелел, а брат Смолик напомнил! Как совершил Давид Голиафу!
– Смилуйтесь! – завыл извлекаемый из группы бородач в голубом плаще. – Не убивайте! Христиане! Помилосердствуйте!
Табориты схватили его, поволокли к телеге, оперли шеей на дышло. Кто-то подскочил и ударил топором. Ему пришлось еще два раза добавить, а в это время горожанин хрипел и сопел, а кровь хлестала потоками. Наконец голова упала на забрызганную брусчатку.
Вырывающегося ксендза бросили на землю, прижали коленями. К затылку приставили шестидюймовый гвоздь.
И забили несколькими ударами обуха по самую шляпку. Ксендз лишь раз закричал, потом только трясся и дергал ногами.
На советников, сбившихся в портале ратуши, посыпались удары. Их били цепами, кистенями[235] и топорами, рубили мечами, кололи рогатинами. Не прошло и полпачежа, а в луже уже дергалась дюжина тел.
Кромешин молча показал рукой, и прежде, чем она опустилась, шесть тысяч воинов Табора с диким криком набросились на город Болеславец.
В одно мгновение были перебиты те, что были на рынке, что находились на улицах. Потом табориты ворвались в дома. Оттуда донесся один большой обреченный крик, из окон, как град, начали высыпаться выброшенные люди. Снаружи продолжалась бойня, не щадили никого, улицы вмиг застелили трупы. Кровь рекой текла сточными канавами, вымывая из них мочу и мыльную пену, смывая мусор, гниль и отбросы.
Не смогли дать убежища болеславские храмы. Всех, кто бежал к Деве Марии и Миколаю, перебили. Произошла резня перед доминиканским Святым Крестом и на площади перед Доротой. Короткое время приютом была церковь Святой Ядвиги, в котором спрятались более сотни горожан и священников. Потом гуситы ворвались в притвор, неф и пресвитерию. В живых не осталось никого, а церковь объял огонь. Яркое пламя и столп дыма поднялись до небес.
Когда всё только начиналось, когда рубили бородача в голубом плаще, Самсон сделал шаг, будто хотел воспрепятствовать. Когда демерит схватил его за плечо, он вырвался, но остался на месте, не подошел, не вмешался. Не предотвратил. Только отвернулся, побелел, как мел. Посмотрел на Рейневана. На Шарлея. И опять на Рейневана. А потом вверх, на небо. Так, словно на что-то оттуда надеялся.