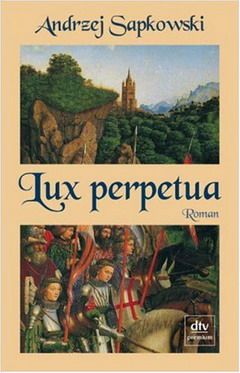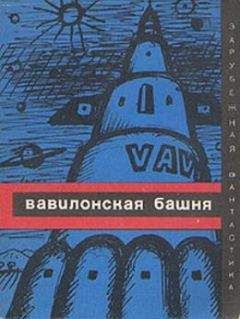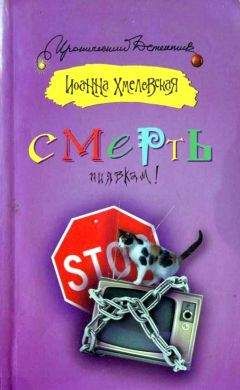Когда всё только начиналось, когда рубили бородача в голубом плаще, Самсон сделал шаг, будто хотел воспрепятствовать. Когда демерит схватил его за плечо, он вырвался, но остался на месте, не подошел, не вмешался. Не предотвратил. Только отвернулся, побелел, как мел. Посмотрел на Рейневана. На Шарлея. И опять на Рейневана. А потом вверх, на небо. Так, словно на что-то оттуда надеялся.
– Брат! – Рейневан подошел не к Кромешину, а к Отику из Лозы, которого знал лучше. – Повлияй на гейтмана, остановите это побоище. Где бургомистр города? Отто Арнольдус! Я должен с ним поговорить!
– Зачем?
– Он обладает крайне важной информацией, – гладко соврал Рейневан, перекрикивая вой убиваемых. – Секретной, особого значения. Для дела!
– Ну, так вам не повезло, вам и вашему делу, – сказал прислушивавшийся Кромешин. – Вот это вот – бурмистр Арнольдус, а вот это вот – голова бургомистра Арнольдуса.
Он показал на первого убитого, бородача в голубом плаще, того, кого зарубили на дышле.
– Мне его даже жалко, – добавил он. – Вечный покой дай ему, Господи. Et lux perpetua luceat ei.
– Он… – Рейневан проглотил слюну. – У него была жена… Люди! Кто ее знает? Кто…
– Я знаю! – услужливо отозвался один из местных, из группы тех, которые служили таборитам проводниками. – Это на улице Таможенной. Я покажу!
– Веди.
Вириду Арнольдусову, только что ставшую вдовой бургомистра, они застали живой. В разграбленном помещении. Пытающуюся подняться с пола и трясущимися руками поправить разорванную одежду, закрыть наготу клочьями порванного платья и рубашки. Самсон громко втянул воздух. Шарлей выругался. Рейневан отвел взгляд.
В полевом войске Табора сурово карали за изнасилование женщин. Военные уставы, введенные Жижкой, предусматривали за изнасилование розги или даже смертную казнь.
Но что поделаешь, Жижки не было в живых уже пять лет, а его уставы вполне очевидно устарели и вышли из употребления. Не выдержали испытания временем. Как и много других принципов и правил.
Самсон снял епанчу, набросил на плечи женщины. Рейневан стал возле нее на колени.
– Прости, пани, – пробормотал он. – Я знаю, что не вовремя… Но это вопрос жизни и смерти. Речь идет о спасении человека, попавшего в беду… Я должен… Должен задать вопрос. Пожалуйста…
Женщина тряхнула головой, вплела пальцы обеих рук в рассыпанные волосы. Рейневан хотел дотронулся до ее плеча, но вовремя остановился.
– Прошу тебя, пани, – повторил он. – Умоляю. Стаю перед тобой на коленях. Я знаю, что тебя когда-то заключали в монастырь. Скажи мне, где.
Она посмотрела на него из-за растущих на щеках синяков.
– В Мариенштерне, – сказала она. – А сейчас оставьте меня одну. Уйдите. И будьте вы прокляты.
Снаружи успокоилось. Кромешин дал приказ прекратить резню, подгейтманы и сотники не без труда удержли разохотившихся таборитов. Не обошлось без вмешательства конных Микулаша Сокола, которые самых рьяных призывали к порядку ударами батогов, дубинок и древков копий. Утихомиренные Божьи воины занялись теперь исключительно грабежом. Облокотившись на свой обитый ризами воз, Кромешин с удовольствием наблюдал, как на площадь сносят и складывают в кучу добычу.
– Ну что, медик? – увидел Рейневана Отик из Лозы, погоняющий вояк. – Ты нашел бурмистрову? Что-то из нее вытянул?
– Нам срочно нужно в Лужицы. В монастырь в Мариенштерне.
– Нам? – поморщился Кромешин. – Ты езжай себе, куда глаза глядят, мне нет до тебя никакого дела. Но твои товарищи служат в войске, а войско выступает на Жагань. Сейчас даю приказ выступать.
– Погоди с приказом, гейтман.
Эти слова сказал молодой человек в школярском берете и черном вамсе, верхом на вороном жеребце. Его сопровождала Рикса Картафила де Фонсека. И один вооруженный в полупанцире на стеганом акетоне. Кони храпели, чуя кровь, поэтому прибывшие спешились. Гейтман смотрел на них исподлобья.
– Кто вы? В чем дело?
– Прикажи посторонним удалиться.
Кромешин жестом отправил всех, остались только Царда и Отик из Лозы. Рейневана, который тоже хотел отойти, остановила Рикса. Это не прошло мимо внимания Кромешина.
– Тебя, сдается мне, я уже видел, – смерил он взглядом юношу в берете. – Возле Прокопа. Зовут тебя Пётр Прейшвиц, городской писарь из Будзишина.[236] Ты, кажется, наш шпион. Говори, слушаю. Что ты должен передать?
– Я должен передать: сейчас не хороший момент для нападения на Жагань.
Вацлав Царда засмеялся, Отик из Лозы прыснул. Кромешин не отреагировал.
– Видишь, – он широким жестом показал на трупы, кровь на брусчатке и дым над домами, – что я сделал с этим городом? Я отплатил. За битву под Крацау. Лужичанам и силезцам гордыня в голову ударила, из нашего поражения под Крацау сделали символ для поднятия духа. Ну, так я дал им символ. Такой, что от одного слова «Крацау» в штаны будут делать даже их внуки. Болеславец заплатил. Заплатят Житава, Будзишин, Згожелец, Хочебуж, Камень и Губин, придет их час. А Жагань заплатит раньше всех. Герцог Ян Жаганьский и его брат Генрих были под Крацау, на их руках чешская кровь, это кровь взывает к отплате. Камня на камне в Жагани не оставлю.
– Князья Ян Жаганьский и Генрих на Глогове, – медленно и выразительно сказал Пётр Прейшвиц, обратились к польскому королю за протекцией, поклялись верно стоять на стороне Польского Королевства и поддерживать Польшу во всех ее начинаниях. А в Кракове как раз пребывают чешские послы. Прокоп Голый, англичанин Питер Пэйн, Бедржих из Стражницы и рыцарь Вилем Костка из Поступиц. Они там о союзе совещаются, демонстрируют добрую волю и дружбу, а ты, брат Кромешин, хочешь разорять и жечь княжество, находящееся под Ягелловой протекцией? Мне приказано передать: director Прокоп не поддерживает идею нападения на жаганьское княжество. Он советует принять предложенный выкуп.
– Мне никакого выкупа из Жагани не давали.
Прейшвиц посмотрел на Риксу, потом на вооруженного в полупанцире. Вооруженный вышел вперед. И заговорил.
– Светлейший князь Ян, illustrissimus dux[237] и хозяин Жагани, моими устами передает, что он согласен…
– Восемьсот рейнских злотых,[238] – грубо оборвал Кромешин. Если заплатит, то я его пощажу.[239] Я всё сказал. И прощаюсь. Брат Царда, ставь войско в походный порядок.
– Мариенштерн, – задумчиво повторила Рикса. – Монастырь цистерцианок. Это посреди дороги между Згожельцем и Будзишином. Отсюда будет дня три езды.
– Два, если гнать коней, – поправил Пётр Прейшвиц. – Это Виа Региа, ею хорошо путешествовать. А я как раз в ту сторону. Охотно провожу.
– Тогда не будем терять времени, – решила Рикса. – Давайте до сумерек доберемся хотя бы до Новогродца.
– Я не могу, – ответил Шарлей на вопросительный взгляд Рейневана. – Кромешин был прав, я на службе. Табор не простил бы мне дезертирство, а за дезертирство – петля. Люди из моего собственного отряда набросили бы мне петлю на шею.
– Зато я поеду, – тихо заявил Самсон. – Недоумкам всё сходит. Они не смогут объявить меня дезертиром, поскольку я и не нанимался. Я был в инвентаре Шарлея. Когда он скажет, что я пропал, это будет так, если бы у него собака сбежала.
– С Богом, Шарлей, – Рейневан вскочил в седло. – Береги себя.
– Это вы берегите себя. Вас четверо, а у меня шесть тысяч приятелей. Плюс двести возов с артиллерией.
Солнце садилось. В Болеславце смердело горелым, на пожарищах стелились огоньки. В Болеславце застывала черная кровь в канавах. В Болеславце одни собаки выли, другие рвали тела убитых. Болеславец звучал стонами раненных и умирающих, плачем обездоленных и осиротелых, отрывками молитв тех, кого лишили надежды.
Наконец солнце зашло, а израненный город утих.
Nox ruit et fuscis tellurem amplectitur alis.[240] Ночь наступила, и всё живое погрузилось в сон.
Бедный Рейневан.
Мне его очень жаль, Маркета. Очень сожалею, что никоим образом я не мог помочь ему в его несчастье. К монастырю цистерцианок в Мариенштерне мы добрались за два дня езды. Лишь затем, чтобы узнать, что панны Ютты там нет. Это сильно удручило Рейневана. Но еще сильнее удручило его то, что Ютта там была. На протяжении трех месяцев, от половины февраля до Зеленых праздников.[241] Он разминулся с ней всего на месяц.
Мы объехали окрестные женские обители. Искали у кларисок в Сэйсслице, у бенедиктинок в Риесе, у магдалинок в Любане. В Згожельце мы расспрашивали цистерцианок из Мариенталя под Острицом, бежавших после того, как их монастырь был сожжен в 1427. Ютты мы нигде не нашли, нигде ничего о ней не слышали. Рейневан совсем отчаялся. Я не мог ему помочь.
Мне его очень жаль.
Тебе тоже?