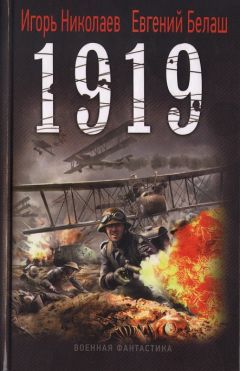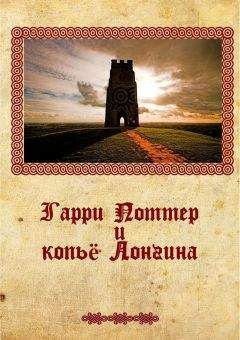Ударило совсем близко, невероятно громко, словно совсем рядом взорвали сразу ящик хлопушек. Хейман снова повалился на землю, зажимая ладонями звенящие уши. Кажется, он что-то кричал, может быть, даже просил прекратить этот оглушительный грохот, которому все не было конца. И тишина пришла. Оглушительная, мертвая, она опустилась на поле. Конечно, на самом деле никакой тишины не было, но сам шум боя уже давно стал привычным, он скользил через сознание, не задерживаясь дольше необходимого. Хейман не мог больше лежать. Лейтенант встал, рывками, едва ли не подтягивая себя, подобно Мюнхгаузену.
«Либерти» пылал, как огромный погребальный костер, источая столб беспросветно-черного дыма. В таком большом танке оставалось еще много топлива и боеприпасов, а Харнье не промахнулся. Пехота, окружавшая танк, в панике отступала, словно свита железного божества, чей дух сломила гибель кумира.
Если Хейман поднимался, то Альфред наоборот, опускался на колени, клонясь набок и устремив в пустоту невидящий взгляд, тонкая струйка слюны стекала по бледным до синевы губам. Бритвенно-острый осколок начисто отсек ему правую руку выше локтя, но лейтенант еще не видел этого.
Хейман стоял посреди поля боя, словно знаменосец старой гвардии на Ватерлоо под английской шрапнелью. Он видел отступающих французов, среди синих фигурок попадались и грязно-зеленые кители англичан. Видел и новые громады бронетехники, приближающиеся к немецким позициям, — слишком далеко для прицельного огня, достаточно близко, чтобы опознать и оценить скорую смерть. Скорую и на этот раз уж точно неизбежную.
— Мои солдаты! — воскликнул лейтенант. Он точно знал, что его слышат, слышат все, кто еще остался в живых из батальона. Все, кто сейчас судорожно вжался в земляные стенки засыпанных траншей, безнадежно сжимая обессиленными руками бесполезные винтовки. Все, кто в страхе считал приближающиеся громадины, отливающие серой сталью и зелеными разводами камуфляжа. — Друзья! Я обещал вам, что сегодня на нас выйдут вражеские орды! И они пришли! Мы отбили их, отобьем и новых!
Одно и то же слово может иметь совершенно разный вес, в зависимости от того, где и как оно произнесено. От батальона мало кто остался, и для смертельно измотанных, обреченных солдат слова командира были бы пустым звуком. Если бы их не выкрикивал срывающимся, звериным рыком лейтенант, только что поразивший чудовище «Либерти». Лейтенант, который сейчас стоял под пулями, не кланяясь ни одной. Только такой человек мог призывать на смерть, только такой боец мог увлекать за собой в безумие последней схватки.
— Собирайте патроны! Делитесь с товарищами! — ревел Хейман. — Сосчитайте гранаты и готовьте штыки! За Германию и кайзера!!!
Ощущение собственного тела приходило частями. Вначале дали о себе знать ноги, и первым чувством стала боль. Не обычная, резкая и острая, как удар ножа, не «стреляющая» и даже не тупое нытье, как при удаленном зубе. Нет, ноги ниже колен онемели, но при этом их словно терзали тысячи крошечных иголочек. Каждая такая иголка по отдельности лишь слегка колола кожу, но все вместе они вызывали морозящий — на самой грани терпимого — зуд. Хотелось впиться в ноги ногтями и расчесывать, терзать их до тех пор, пока не удастся вычесать, выскрести эти гнусные иголки. Но Шетцинг не чувствовал рук.
Затем пришло ощущение сухости — настоящей пустыни во рту. Язык мумифицировался и царапал такое же сухое нёбо, случись рядом ведро воды, Рудольф нырнул бы в него с головой. Шетцинг попытался сказать, что его мучает жажда, но между пергаментными губами проникло лишь тихое сипение. Ему было плохо, безумно плохо, и летчик даже не понимал — где он, что с ним, отчего все вокруг так зыбко и туманно?..
Голоса пришли из тумана, бесплотно проникли в уши и начали гулять внутри пустого черепа, многократно отражаясь от стенок.
— Господин профессор, у него очень нехороший анализ крови. Может, попробуем антивирус?
Отражение слов причиняло физическую боль, хотелось прикрыть уши руками, защититься от ранящих звуков, но дальше плеч расстилалась ватная беспомощность.
— Молодой человек! Для порядочного немецкого врача в микробиологии может быть только один авторитет — наш соотечественник, господин Кох!..
Это короткое «Кох!» пробило голову, подобно пуле, словно длинную иглу вонзили прямо в основание черепа.
«Прекратите! Ради бога, прекратите!» — кричал летчик, но его губы лишь старчески шлепали, как у старика.
— …а вы опять предлагаете методику русского, разработанную в институте этого шарлатана-французишки![112] Я буду вынужден объявить вам выговор!
Этого слух Шетцинга уже не выдержал, и летчик уплыл в багровую муть, где не было ни слов, ни мыслей, только мириады муравьев, терзавших его ноги. Хотя, не только…
Еще там ждали воспоминания.
* * *
Шумел мотор, на ветру басовито гудели расчалки. Широкие двухэтажные крылья вибрировали под напором набегавшего воздуха, и эта дрожь передавалась всему телу летчиков. Кого-то она раздражала, многие вообще считали, что постоянная мелкая встряска убивает организм, разрушая внутренние органы. Но Шетцинг, наоборот, ценил ее как непременного спутника свободного полета, а также самый верный индикатор состояния аэроплана и моторов.
«Боевик» глотал километр за километром, приближаясь к линии фронта, пробиваясь сквозь редкие тучи, огибая куда более частые дымы, поднимавшиеся с земли, подобно смерчам. Самолет остался в одиночестве и, бросая частые взгляды по сторонам, Шетцинг чувствовал нехороший холодок где-то близ самого сердца.
Еще совсем недавно одинокий самолет в небе был таким же нонсенсом и анахронизмом, как игольчатое ружье в век пулеметов и первых «машиненпистоле». Накал воздушных боев не оставлял одиночкам ни единого шанса выжить. Даже немцы — признанные индивидуалисты — летали группами или хотя бы парами, прикрывая друг друга и компенсируя общую нехватку самолетов. А уж французы поднимались в воздух толпами не менее чем в полсотни машин, затемняя небо, подобно саранче. Это было время, когда в безбрежной синеве сходились целые фаланги крылатых гоплитов. Самолеты проносились так близко друг от друга, что можно было увидеть белки глаз противника и стрелять в него с двадцати-тридцати метров. Машины тех, кому не повезло, нередко сталкивались фюзеляжами, цеплялись тонкими крыльями и падали, словно смятые куски оберточной бумаги.
Что ж, для французов, британцев все так и осталось. И для американцев тоже, месяц за месяцем заокеанские гости все увереннее осваивали небо Старого Света. Одни лишь немцы вспоминали старые добрые времена… У Германии оставались стремительные, современные самолеты, хватало и пилотов, но не было главного. В рейхе заканчивалось то, что вслед за бойкими газетчиками стали называть «кровью войны» все остальные, от политиков до домохозяек (хотя кто теперь мог позволить себе роскошь оставаться дома и вести хозяйство?).