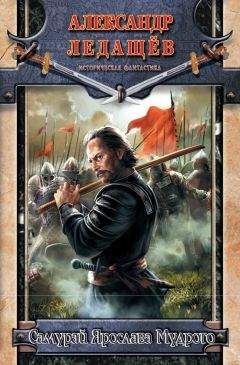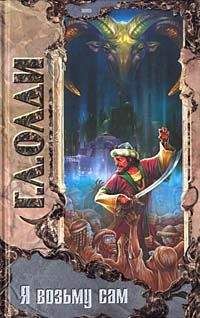А на третью ночь я просто протянул руку в сторону очередной букашки и негромко сказал правду:
– Отпусти его.
– Почему?
– Я так хочу.
Она наклонилась над букашкой, словно вглядываясь.
– Да, он счастливец. Пусть идет. Пока его счастья хватает на вход. Но обратно он все равно вернется, не его это мир. Так ли, иначе ли – сколько ему счастья? – И огонек, кроваво тлеющий в ее зрачках, гаснет. Зато по ее красным, словно со зла накусанным губам, пробегает хищная, азартная усмешка…
Утро пришло все-таки. Просто надо было лишь один раз не поспать ночь – и утро пришло. Утренние сумерки мы с Ягой встретили на пороге. Сидя под моим плащом.
Удивительно тихое, неуверенное в себе, стеклянное по-осеннему утро вошло, не постучавшись, на двор к стражнице.
– Мне пора. Мне пора уходить, – сказал я и примолк. Сколько раз уже в своей жизни я говорил эти слова! Теперь они выглядели как подготовка к сегодняшним. «Мне пора уходить» – и дороги открывались передо мною. – Просто пора, стражница.
– Да, ты уходишь, – сказала Ягая сразу. Не думая. Не вздыхая. – Тебе пора, бродяга.
– Наставник, вытащенный из собственного дома мрачной Совой, – невесело усмехнулся я, седлая Харлея. Ягая негромко рассмеялась.
– Хорошо сказал, Ферзь, – она мягко, по-рысьи встала и одним движением оказалась возле меня, пересекши расстояние от крыльца до временной коновязи Харлея. Сняла с плеча свой браслет со змеями и молча надела мне на левое запястье. Я не стал отказываться. Хотя сам бы, скорее всего, не попросил.
Я привязал коня и вошел в дом. Собраться.
Собраться мне довелось быстро. Ягая тенью скользила по избе, куда вошла со двора сразу после меня.
Я не жду, что она попросит остаться. Не жду. Да она и не попросит.
– Присядем, Ферзь, – говорит Ягая. Наготу ее прикрывают только волосы. На крыльцо встретить утро мы вышли с полка…
Эта кожа бела не по-снежному. Белее. Эти волосы не иссиня-черны. Чернее. Эти губы не пунцово-красны. Краснее. Алее. Ярче. Жарче. Горячее. Какая полуночная прорубь отдала блеск твоим глазам, стражница?
Я встаю и иду к дверям…
…И я выхожу из влазни на двор. Оборачиваюсь. Ягая стоит за мной, опершись тонкой, сильной рукой о притолоку. Она не бесстыдна. Но она так и не оделась. Молчим. Только тихо шепчет что-то Синелесье. Не птичьими трелями, не трескотней кузнечиков, не макушками елей. Само.
И я сам ловлю себя на том, что уже почти шагнул назад. В дом.
Рука Ягой легла на косу, и я понял: если я двинусь, только я двинусь к ней – обнять на прощание, резко, как обнимаются, расставаясь навек, – в тот же миг я буду убит. Прощание уже было – в избе. Когда просто, сильно посунулся к ней, обхватил за плечи, потерся лицом о ее черные волосы – ночь ее волос и запах полыни – она провела мне ладонью по лицу.
Все. Я ушел, не оборачиваясь, ведя Харлея в поводу, а за воротами вскочил верхом и ускакал. На восток.
…Темно-синяя листва и фиолетовые стволы деревьев в Роще Прощания. В роще перехода оттуда сюда… А теперь – и навсегда – от нас к ним… Роща, где протекает пограничный ручей Отчаяния, гоня темно-сапфировые волны, с его иссиня-черной галькой и валунами черненого серебра по его берегам. Роща, где навеки задремали бархатно-синие сумерки августовского вечера скандинавских фьордов, шотландских предгорий, славянского ельника в часы заката – да, можно отыскать сравнение, и все же – своя, неоспоримо своя темная синь плескалась между стволов деревьев и перебирала в замшевых пальцах изящной вечерней перчатки темно-синие листья… Невыносимо темно-синяя, вечно сумеречная Роща, сразу падающая на самое дно души и остающаяся там навек. Безысходно, мучительно стремясь все снова и снова возвращаться к этой роще вечных сумерек, Роще Прощания, будет плакать душа осенними ночами – во время сбора урожая и на исходе весны, в тех днях, незаметно ныряющих в лето…
А зимой Роща спит. И не видит снов, быть может.
Я неспешно пересекал Синелесье. Застоявшийся Харлей не настаивал на отдыхе, а я попросту жил в его седле. Мы не торопились, но мы и не останавливались. Поспешали, как и заведено, медленно. Понемногу учусь и я. Даже я.
…И туман провожал меня. Но на этот раз он не стоял стеной, не путал небо и землю, а просто тек по земле, доходя до конских бабок. Обычный закатный туман. На закате же я выехал из Синелесья и углубился в Лес Порубежья, через который мне надо было проехать и выйти в сторону хоженых дорог, селищ, печищ.
…Браслет Ягой начал подрагивать на руке, когда стало садиться солнце. И вскоре после того, как солнце село окончательно, меня поймала Ланон Ши.
Ланон Ши, мечта, смертная боль поэтов, музыкантов, филидов – тех, кто искренне может любить, кто обладает Силой, не будучи сидом или нежитью. Но она не желала больше ждать поклонения и добровольной смерти – она была голодна и пела для меня. И в ночи, стоя возле окаменевшего Харлея, я увидел ее – поющего охотника за чужой кровью. «Чужой», как отстраненно… Моей! Да и откуда она взялась, черт бы ее подрал?! Или для Кромки нет разницы, какие именно нежити и где бродят по ней? Ирландская Дини Ши на нашей Кромке, наша ли Ягая на их стороне… Видимо, Кромка не имеет ни границ, ни различий, просто за Кромкой люди, а на Кромке – нежити, сиды, незнати, соседи, Народ Холмов и прочие.
Битвы тут быть не могло – пение Ланон Ши, имя ее и облик ее попросту сковали мне руки и ноги. Более жертвенно я бы не выглядел и связанный по рукам и ногам. Каприз прекрасной кровососки оставил мне речь, и я сказал. Что мог сказать ей я, наставник Ферзь? Правду. Сидам лучше говорить правду. Ее сияющие глаза, острые зубы, пышное облако паутинно-светлых волос, фарфоровое лицо были уже в шаге от меня, когда я сумел-таки высказаться. Напоследок. Не от тоски, не от страха. Я сказал то, во что мне оставалось верить на последней поляне в моей жизни, под пристальным взглядом идущей, плывущей над травой гибели:
– Посуди сама. Неужели я прошел через границы, скитался по Мирам, сражался и убивал, не любил, не дышал, нашел свой дом, из-за меня гибли и погибнут еще люди – и все это только для того, чтобы насытить собой какого-то певчего упыря?!
Она остановилась на миг. Я так и не узнал, что она хотела мне сказать в этом Лесу Порубежья. Над моим плечом прогудело, лопнул твердый, загустевший янтарем от песни Ланон Ши воздух, и стрела-срезень, с острием в пядь шириной, ударила Ланон Ши прямо в переносье и словно расколола ее прекрасное фарфоровое, матово-белое лицо, лицо японской куклы, на части, как кукольное же. На кровавые осколки. Вот и все. За моей спиной никого не было. В Лесу были я, Харлей и мертвое тело убитого наповал сида. Я вскочил в седло и проехал дальше, на миг остановившись над телом убитой «прекрасной возлюбленной», не слезая с седла, выдернул из ее головы стрелу и положил ее в переметную суму. Черно-оперенную аршинную стрелу-срезень, вылетевшую из пустой чащи за моей спиной.