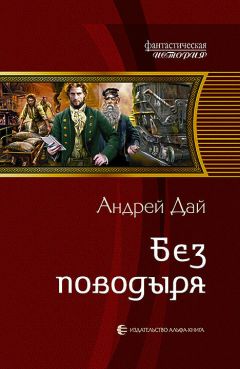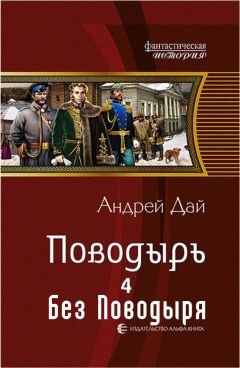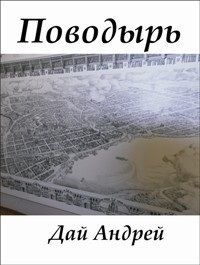Владелец заводов и пароходов понятливо боднул лобастой головой.
— Отлично. Вы, Иван Яковлевич, — на сотника было жалко смотреть. — Впредь потрудитесь распределять конвой таким образом, чтоб держать под контролем все возможные пути проникновения. Я ясно выразил свою мысль, или нужно поручить это кому-либо другому?
— Ясно, Ваше превосходительство. Такого больше не повториться. Жизнью ручаюсь.
— Хорошо. У вас есть еще один шанс. На сегодня вы свободны.
На щеках хорунжего выступили первые проблески румянца. Щелкнув каблуками, казак торопливо вышел. По моему, кое-кому из расслабившихся у меня за спиной казачков сейчас не поздоровится. Тецков тоже не стал более мне докучать. Вышел из номера может быть и не так споро, как Корнилов, но не менее целеустремленно.
— Это правда, Ваше превосходительство? — тихонько поинтересовался Варешка, успевший, к тому времени, усесться на табурет возле моего изголовья.
— Ты о чем, Ириней?
— О малюсеньких зверьках, что болезни в наше тело вносят.
— Совершеннейшая правда.
— Чудны дела твои Господи. И что же, Герман Густавович. Они и вправду хлебного вина побаиваются?
— Спирта. Не вина. И то, только если рану обработать или руки протереть. А вот пить его вредно. От частого его внутрь употребления как раз другие болезни появляются… Ладно. О микробах в другой раз поговорим. Сказывай, что там?
Варешка наклонился совсем низко к моему уху и прошептал:
— Их трое было. Мы труп у окна подобрали, да увезли покудова. В тюремном замке в лазарете положили.
— Труп?
— Вы из револьверта своего, с одного выстрела ему в лоб. Пришлось лицо умывать. Насилу опознать смогли.
— Опознали?
— Конечно, Герман Густавович. Я же покойного и при жизни знавал.
— И кто же это был?
— Караваев. Кому бы еще к вам в окно лезть вздуматься могло. Я уже и наблюдение с дома барона снять успел. Не к чему теперь-то.
— Поторопился, — поморщился я. — Теперь-то, Ириней Михалыч, самое интересное начинается. Теперь нам с тобой заказчика определить нужно, а единственный след к злодею я пулей своей обрубил.
— Ну, один-то из троих варнаков жив покуда. В себя придет, поспрошаю.
— Вот-вот. Поспрошай. Почему, как уличены были, не прочь кинулись, а на меня поперли? Пожар в торговом ряду — не их ли рук дело? И если — они, то откуда нефть взяли?
— Нефть?
— Масло земляное, горючее.
— Петролиум, что ли? Так это всякий скажет — с озера Масляного. Его там остяки со льда зимой лопатами собирают.
— Ух ты! Обязательно нужно там побывать…
— А вот кто им, Герман Густавович, мысль такую дал — лавки петролиумом полить, чтоб не потухло — это большой вопрос.
— Есть версии?
— Достойных внимания — нет, — огорченно признался Варешка. — Я к барону приглядывался. Но теперь уверен — это не он. Возможность у него, быть может, и была, а вот духу бы не хватило. Да и не поддерживал Караваев с полицмейстером связи. Я бы узнал.
— Где-то ведь они постоем стояли, — покачал я головой. — И кто-то им это убежище приготовил. Не к Акулову же они за адресом обращались.
— Вот и это у душегубца поспрошаю.
— Обязательно. И поторапливайся. С первыми числами мая ты уже в пути должен быть.
— Куда, Ваше превосходительство?
— В Барнаул. Там много вкусного горного начальства…
— Спасибо, Герман Густавович, — вдруг искренне обрадовался сыщик. — Давно хотелось.
Ничего особенного в ней не было. Обычная икона — потемневшая от времени и сажи лампад доска и невзрачный лик бородатого мужика с глазами смертельно уставшего человека. Говорят, она — икона эта — чудотворная. Будто бы она сама явилась в доме умирающего солдатского сына, принеся тем самым пареньку полное выздоровление. С тех пор, а случилось чудо будто бы в первых годах восемнадцатого века, каждый май-месяц икона совершала небольшое путешествие из Никольской церкви Семилужского села в Богоявленский собор Томска. А в августе возвращалась домой…
Обычная икона Святого Николая. Не светящаяся, не плачущая кровавыми слезами и не дающая негасимый пасхальный огонь. Обычная, но на завтра, с самого утра, тысячи верующих придут на то самое место, где стоял на коленях я. Придут поклониться и попросить. Николай-Угодник, он такой — у него постоянно все что-то просят. Все, кроме меня. Я-то поговорить пришел…
А началось все с Пасхи. Ну, или если быть точным — с ночи перед пасхой, когда я был легко ранен.
С самого утра Святого христианского праздника у меня настолько поднялась температура, что я только шептать и мог. И то только тогда, когда Апанас не ленился смачивать мне губы. Так и провалялся до вечера, пока организм сам не справился с инфекцией, наверняка занесенной добрым доктором Гриценко. Окружной врач соизволил явиться меня пользовать, когда я уже куриный бульон с ложечки схлебывал. Потрогал лоб, оставил баночку какого-то порошка, немедленно после его ухода отправленного в мусор, констатировал мое чудесное исцеление и отбыл. На белоруса подействовало. Коверкая Великий и Могучий, мой новый слуга прямо таки потребовал от меня, чтоб я будущим же днем отправился к какому-либо святому месту возблагодарить Господа. Я, в общем-то, и не возражал. Тем более что и сам давно хотел побывать на могиле загадочного старца Федора Кузьмича. В мое время, часовню на месте упокоения потенциального Александра I восстановили, но не факт, что мощи остались целы. Тут же — все на месте. Можно не сомневаться.
Утром в понедельник, отменив все запланированные встречи, отправился. Мне приготовили только что купленную коляску, казаки помогли взгромоздить мое слабое еще после лихорадки тело на пышное сиденье, и, разбрызгивая фонтаны грязи, мы двинулись к ограде Богородице-Алексеевского мужского монастыря.
Нужно сказать, что в ночь после Пасхи в Томске прошел первый, весенний дождь. Сугробы, где они еще оставались — сжались и обсели, улицы города покрылись жиденькой, сметаноподобной грязью. Губернская столица немедленно приобрела вид глухой деревеньки, с классическими непролазными топями дорог, покосившимися заборами и потемневшими от пыли домишками. Одним махом, получасовым дождиком, зимняя гордыня частично каменного, почти европейского Томска плюхнулась мордой в грязную жижу.
Четверка запряженных в мою новую бэушную коляску лошадей с трудом пробирались между заполонивших проезжую часть улиц людей. Казаки конвоя, как бы Корнилов не ярился, что бы не обещал им порвать или оторвать, больше разглядывали румяных барышень, чем выискивали затаившегося ворога.