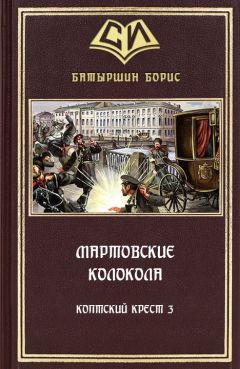— Чтобы вопросов не задавали, говорите? — озадаченно переспросил Вершинин. — Ну, вообще–то у меня есть своя группа. Люди верные, надёжные, я им вполне доверяю. Но мне хотелось бы знать, в чём, собственно дело?
— В чём? — переспросил юноша. — Видите ли, может статься, что этого господина придётся втихую взять и провернуть с ним.. одну комбинацию. Как бы вам объяснить… своего рода, обманная игра… — и тут Яша он умолк, встретившись глазами с Корфом — барон смотрел на Яшу ласково–понимающе, и в глазах его читался вопрос: «Ну–с, милый друг, что ты на этот раз задумал?»
— Это, знаешь ли, отвратительно, Артемий! — Голос Василия Петровича доносился из гостиной глухо, но Николка всё равно отчётливо различал слова. — Я не понимаю, как можно спокойно сносить даже мысль о том, что народ — то самый, о котором писал Некрасов, Салтыков—Щедрин, Пушкин, наконец — будет отставлен от самой возможности получить образование. И это — после всех тех шагов к свободе и уважению личности, что были сделаны в России в прошлое царствование!
«А дядя–то разошёлся не на шутку», — подумал Николка. Обычно в доме избегали разговоров о политике; исключения составляли те дни, когда из Петербурга приезжал старинный товарищ Василия Петровича по университету. Он служил в столице, в канцелярии обер–прокурора Святейшего синода. Бывая по делам службы в Москве, Артемий Лукич (так звали гостя) всё время останавливался у Овчинниковых. На то время, пока он гостил на Гороховской, запрет на политические разговоры в доме временно прекращал действовать, и Василий Петрович с удовольствием расспрашивал старинного приятеля о последних новостях из столицы. Это было тем более любопытно, что ведомство обер–прокурора, который и сам не чужд был когда–то педагогической деятельности, с некоторых пор активно вмешивались в вопросы ведомств по образованию.
Детей — Марину и Николку, — до таких бесед не допускали, безжалостно выставляя по своим комнатам. Вот и приходилось, как сейчас, напрягать слух, улавливая доносящиеся из гостиной голоса. Благо, труда это не представляло — в пылу дискуссии оба спорщика перестали сдерживаться и порой повышали голос.
— То–то господа революционеры отблагодарили царя–освободителя — бомбой! — Глухой, слегка простуженный басок — это уже Артемий Лукич. — Я, право, не понимаю тебя, Василий. Неужели ты до сих пор не понял, сколь разлагающе влияет порой на неокрепшие умы излишний либерализм, царящий в университетах? Про гимназии не говорю, там пока всё в порядке. Однако же Константин Петрович совершенно прав, когда говорит, что надобно остудить» российское общество, ограничив передвижение из неблагородных слоёв населения в разночинцы и студенты, которые и были главной движущей силой революционного подъёма предшествующих лет[75].
— Этот твой Победоносцев[76] одно только знает — тащить и не пущать! — кипятился Овчинников. — Право же, до смешного дошло. Еще тогда, после реформ о свободе печати, когда появились первые свободные голоса, смеющие критиковать власть — тут же полезли и запреты, и всякого рода ограничения. В ответ люди, которым дорого свободное живое слово, принялись над властью насмешничать, порой, признаем это, даже и зло. Да ладно бы только насмешничать — критиковать принялись, а то и указывать, что делать. Скандал! А в ответ — что? А то, что вместо здравого, рассудочного ответа на страницах тех же газет, которые, кажется, для того и созданы, чтобы вести дискуссии об общественной пользе — насмешники и критики дождались того, что их принялись хватать и ссылать. Конечно, те схватились за револьверы; а их стали вешать. Ответили взрывами. Вот так, голубчик мой, и докатились мы с вами от безобидной, в общем–то, Засулич[77] до Гриневицкого с Софьей Перовской[78]…
— Ничего себе — «безобидная» — было слышно, как гость раздражённо фыркнул. — Стрелять прилюдно в генерал–губернатора, да ещё в его же собственной приёмной — это, по твоему, безобидная? Так мало того, её ещё и оправдали за это…
— И правильно сделали! — чуть не закричал Василий Петрович. — А вот если бы сразу после этого не началась волна гонений на всех, кто её поддержал — так пожалуй, и взрыва на екатерининском не было бы…
Ты, друг мой, охолони, чайку вон, выпей… — Артемий Лукич, в противоположность Овчинникову, говорил спокойно и Николке приходилось особо напрягать слух, чтобы разобрать его слова. — «Самая идея власти утверждается на праве, и основная идея власти состоит в строгом разграничении добра от зла и рассуждения между правым и неправым — в правосудии». Как же может правосудие не покарать того, кто поднял руку на человеческую жизнь? Засулич, вон, оправдали — за речь адвоката, от которой чувствительные дамочки прямо в зале суда в обморок падали, — и что в итоге? Пожалте — теперь из любого душегуба у нас тут же святого лепят! А вот повесили бы, как в Англии….
Опять своего дражайшего Победоносцева цитируешь? — ответил Василий Петрович. — Ну что ж, вот тебе тогда цитата — приводили, вроде бы, из его высказываний насчёт евреев, живущих в России: «Одна треть вымрет, одна выселится, одна треть бесследно растворится в окружающем населении». Это же дичь, средневековье, что о нас в Европе подумают?
— Да пусть думают, что хотят. — пренебрежительно заявил собеседник. Константин Петрович неустанно заботится о том, чтобы защитить православие, и, в конечном счёте, всю Россию от противоположных нам религиозных групп — староверов, баптистов, католиков. Иудеи, конечно же, тоже в этом списке. Как и все эти господа либеральные интеллигенты, наши с тобой однокашники по альма матер, между прочим, которые чуть что — начинают твердить — «ах, как же Запад на нас посмотрит! Тьфу, мерзость какая…
— Вот уж не думал, Артемий, что мы когда–нибудь друг другу такое скажем. — голос Василия Петровича стал сразу тихим и каким–то грустным. — Уж не знаю, служба ли на тебя так повлияла — но ты за этот год стал законченным реакционером. В жандармы податься не думал?
— Скрипнул стул. Николка со страхом подумал, что Артемий Лукич — мужчина крупный, слегка смахивающий сложением и повадками на медведя, — вот сейчас, наверное, встал, грозно навис над дядей и сверлит его гневным взглядом. Но прошло несколько секунд, и мальчик услышал негромкий смех гостя.
— Ну, ты, право же, сказанул, Василь… выходит, страшнее кошки зверя нет? Эк вы, либералы московские, жандармов–то опасаетесь… ладно, давай оставим эту тему, а то и правда невзначай поругаемся. Да и раскричались мы — того гляди детей разбудим. Вот что — у меня там, в саквояже припрятана заветная бутылочка — теща настаивает на имбире и кедровых орехах. Она у меня родом из Томска — такой, скажу я тебе самородок по части сибирских домашних наливок…