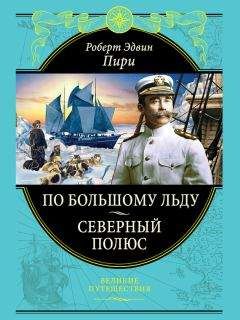Вечером я еще раз как следует все обдумал – с чего начинать разговор, чем продолжать и какие аргументы привести в защиту своего предложения.
На следующий день, сидя у изголовья Бориса Федоровича, я осторожно закинул удочку. Заходил издалека. Мол, все эти стрельцы, которые дежурят в Кремле, в царских палатах и так далее, безусловно хороши, однако есть в них во всех один-единственный, но существенный недостаток: отсутствие должной преданности именно по отношении к самому Годунову. То есть они служат просто царю, вне зависимости от его имени и отчества.
– Мыслишь, мало им плачу? – поинтересовался царь.
М-да-а, не понял ты меня. Но это не смертельно – растолкуем.
– За деньги настоящей преданности не добиться, уж ты мне поверь, государь, – парировал я. – Да и нет тут ничего страшного… пока на троне сильный правитель. Худо другое – едва ему на смену придет более молодой, на первых порах не совсем уверенный, к тому же не имеющий ни малейшего опыта принятия самостоятельных решений – тогда-то поначалу возможно… всякое.
Поначалу хотел сказать «беда», но вовремя удержал свой язык – особо пугать ни к чему, достаточно, если он встревожится.
Я бил наверняка. Личная преданность семье Годуновых была идефиксом и самого Бориса Федоровича, так что, отталкиваясь от нее, от царя можно было добиться очень и очень многого.
Но он вновь меня не понял.
– Потому я и завел иноземцев, у коих тут на Руси ни кола ни двора, – слабым голосом пояснил Годунов. – А уж им столько из казны платят, что всякий доволен будет.
– А если кто иной больше пообещает? – презрительно хмыкнул я. – Сам же говоришь – ни кола ни двора. Значит, им наплевать на все, и переметнутся вмиг, только свистни да золотом помани. Не-ет, государь, большая деньга – она далеко не от всего спасает. Тут совсем иное надо. – И сразу перешел к делу: – Надо, чтоб служивый человек из-за одной лишь любви предан был. Тогда его никто перекупить не сумеет. Чтобы он был готов ради твоего сына и голову на плахе положить, и один против десятка драться выйти, если такое понадобится. Чтоб…
– К чему клонишь? – перебил Борис Федорович, проницательно вглядываясь в мое лицо. – Уже ведаю, надумал что-то, потому излагай.
Глаза его загорелись. Значит, понравилось начало. Что ж, разочаровывать не станем – продолжение сделаем еще убойнее.
– Мыслится мне, государь, что надо создать особый полк, чтобы он подчинялся только царевичу, ну и, разумеется, тебе. А назвать его… – Я сделал вид, что задумался. – Ну, скажем, Стража Верных.
– Из кого ж ты надумал этих верных брать, коль иноземцам у тебя веры нет, да и стрельцам моим ты тож не больно-то?..
– Такие чувства, как верность, преданность и прочие, обычно у молодых бывают. Пока человек юн – он если уж верит во что-то, то от всей души, если любит кого-то, то всем сердцем. Вот я и хочу набрать этот полк только из тех, кто не старше двадцати лет, причем любых, кто откликнется, а не только из боярских, дворянских или стрелецких детей. А первым воеводой над ними надо поставить самого царевича. Опять же это и для другого выгодно – пока его в народе особо не знают…
– Погоди-погоди, – остановил меня Борис Федорович. – Енто как же не знают? Что ни указ о помиловании татей, так завсегда под ним не токмо моя рука, но и Феденьки. Да и под другими, где кого-то жалуют, тоже его имечко упомянуто, а ты сказываешь…
– Я к тому говорю, что из палат он выезжает редко, – поправился я.
– Завсегда с собой беру, когда к Троице молиться едем, – вновь не согласился царь. – И там, в монастыре, он и милостыньку нищим раздает, и калачами одаривает и прочим.
– Монахи и нищие – это лишь малая часть народа! – жестко отрезал я. – Да и далеко они, случись что. А на татей полагаться и вовсе глупо – не те людишки, чтоб добро помнить. Встречаются, конечно, и среди них… – поправился я, вспомнив Игнашку Косого, – но редко. А надо, чтоб его вся Москва знала и… любила. Чтоб, когда он ехал по улицам впереди своего полка – нарядный, юный, красивый, гордый, всем улыбаясь и кивая, люд московский плакал от умиления, солнышком своим ясным называл.
Годунов слушал, прикрыв глаза, а на губах играла умиленная улыбка. Видя это, я вообще залился соловьем, на ходу изобретая радостные возгласы и крики, которыми якобы будет приветствовать Федора Борисовича народ.
– А куда это ты его со своим полком отправить собрался? – вдруг встрепенулся царь.
– Как куда? – удивился я. – Где ратники, туда и их воевода – на учения. Они ж совсем юные, им всему учиться надо – и как строй держать, и как в цель стрелять, и как команды в бою выполнять. А чьи команды? Вестимо чьи – воеводы своего.
– И ты что же? – сразу насупился Годунов. – Его одного из моих палат невесть куда? Нешто так можно?
– Не можно – нужно, – жестко поправил я его. – То, что царевич рядом с тобой в Думе сидит, – это одно. Только, насколько мне ведомо, все равно там все решения принимаешь ты и никто другой. А где ему учиться командовать?
– Дак у меня, – пожал плечами царь. – Потому и беру с собой, чтоб приучался к государевым делам.
– Знаешь, расскажу я тебе одну притчу. – Это мне припомнился дядя Костя и его были, которые он излагал Ивану Грозному. – Жил-был на свете человек. И очень он любил своего сына. А жили они на острове, поэтому за едой и прочим человек этот плавал на лодке. Но в жизни бывает всякое, поэтому иногда ему приходилось переправляться через реку вплавь. И решил он обучить плавать своего сына, а то мало ли. Усадит его на берегу и говорит: «Смотри, как я плаваю, и учись». Тот смотрел, смотрел, а как отца не стало, решил сам попробовать. Плюхнулся в реку, ан чувствует – на дно идет. Он и руками, и ногами, как отец показывал, да все равно не получается. Побултыхался-побултыхался и…
– И что? – даже чуть подался навстречу мне Годунов.
Я внимательно посмотрел на его лицо и изменил первоначальную концовку.
– Кое-как научился, – неохотно проворчал я. – Однако выбрался на берег еле-еле, да и воды наглотался изрядно.
– Но выплыл, – умиротворенно протянул царь.
– Выплыл, потому что река была неглубока и тиха, да и течение в ней несильное, – язвительно заметил я. – Повезло парню. А встретилась бы ему крутая волна, и пиши пропало.
– На Руси тихо ныне, – прошептал Годунов и с упреком посмотрел на меня. Мол, чего ты тут на болезного человека страсти нагоняешь? Не видишь, что ли – и без того еле жив.
Здрасьте пожалуйста! Это я же еще и виноват!
Ох как захотелось рассказать ему, что его Федор уже через год с небольшим окажется в гробу. Вот только после моего рассказа, чего доброго, придется сразу еще одну домовину готовить – для папы.