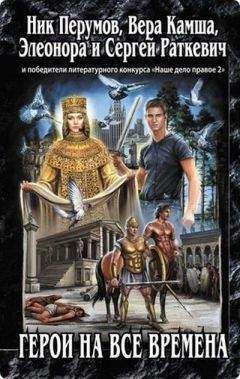Арестуй Сергеева, пока не начался мятеж.
– Что-о?! Мятеж?
– Не «чтокай», а слушай! – рассердилась товарищ начштаба. – Это ж харьковская вольница, партизанщина! Они тут привыкли всё глоткой брать да на митингах орать. Не нравится кошевой атаман – долой его, да и нового выкликнем. Вызывай охрану. Два взвода, не меньше. И при пулемётах.
Жадов больше не возражал.
Вытащил только «маузер» и выбежал следом.
Ирина Ивановна почти без сил опустилась на лавку. Закрыла лицо ладонями, замерла так – и сидела, не шевелясь, пока в дверь осторожно постучалась дородная попадья – румяное доброе лицо, в руках широкий платок.
– Можно, милая?
– Да, конечно, – Ирина Ивановна оторвала ладони от лица. – Простите, мы… простите, что мы…
– Возьмите-ка. – Платок перекочевал Ирине Ивановне на плечи. – Вот сердцем чую – Господь смилостивился над нами, вас нам послал.
– Да о чём же вы, матушка…
– О том же, – строго сказала попадья. – Вижу, вижу, почему начальник ваш не дал нас на мороз выкинуть. Перед тобой, милая, ему стыдно было. Удержи его, сбереги, Христом Богом молю. Не за ради него, хотя тоже вижу – сердце у него доброе. Но за всех, кого он не даст ещё на мороз выгнать.
– Удержу, – словно через ком в горле ответила Ирина Ивановна. – Сберегу… насколько смогу.
Южные края,
зима-весна 1915 года
Фронт сгущался, подобно сказочному змею, набивая брюхо сотнями и тысячами людей. Огнистый червь, ненасытный Горыныч, он требовал и требовал дани, но отнюдь не невинными девами (ими, впрочем, он тоже не брезговал). От Днепра до Дона почти строго с запада на восток тянулась черта, за которой – «враги». Враги с каждой из сторон.
Порыв Добровольческой армии медленно иссякал – красные слали с севера эшелон за эшелоном, серая пехота с алыми лентами на папахах вцеплялась в сёла и города, обращала в почти неприступные крепости здания заводов и паровозных депо, толстые стены добротной кирпичной кладки разбить могла только тяжёлая артиллерия, а трёхдюймовки лишь клевали, даже обрушить кровлю у них получалось совсем редко.
Лозовую конники Келлера оставили, но второй раз затянуть красных в огневой мешок не получилось. Так и толкались боками, но силы на стороне большевиков всё прибывали и прибывали, а вот Добровольческая армия числом прирастала, но далеко не столь быстро.
Государь перестал выпускать воззвания. Приказы военного командования ещё оформлялись Его именем, но все знали, что это уже пустая формальность. Царь был жив, была жива его семья, но Россия словно забывала о Нём, точно фальшивое отречение сделалось каким-то образом настоящим.
Медленно, но верно таяла золотая казна.
Черноморский флот сохранял верность. С разложившегося Балтийского на юг пробрался Александр Васильевич Колчак; получил контр-адмирала и, в нарушение всех традиций, назначен был командовать в Севастополе. Говорили, что Государю новоиспеченный адмирал, получая погоны с орлами, сказал: «Людей на флоте кормить от пуза и платить хорошо». Большевицких агитаторов арестовывали; ненадёжных матросов списывали на берег; из отставок и бессрочных отпусков выдергивали старых кондукторов, соблазняя хорошим жалованьем и новыми привилегиями, почти уравнявшими их с офицерами; кормили и впрямь «от пуза».
Фёдор Солонов и рота александровцев шли из боя в бой, но ничего подобного взятию Юзовки уже не случалось. Красные оправились, начали давить – сперва отдельными отрядами, потом полками, а потом и дивизиями.
Февраль прошёл в «боях местного значения», линия фронта почти остановилась. Старобельск добровольцы таки заняли, но это оказался их последний крупный успех. Подходили резервные дивизии красных, возглавляли их новоявленные «военспецы», то есть офицеры старой армии, а при них – «комиссары», следившие за… словом, следившие.
Ошибок, что совершил смелый, решительный, но горячий и безрассудный Антонов-Овсеенко, эти «военспецы» не повторяли. Нудно, скучно, без революционного огонька и пролетарской доблести принялись налаживать оборону; а где могли, стали и атаковать.
Александровцы сделались ядром «пожарной команды» 1-го армейского корпуса (не достигавшего числом и обычной дивизии мирного времени). Возглавил отряд, само собой, Две Мишени; на бронелетучках отряд появлялся на угрожаемом участке фронта, затыкал дыру, останавливал прорыв, но…
Но войны обороной не выигрываются. Кроме лишь тех редких случаев, когда у наступающей стороны кончаются все и всяческие ресурсы.
От великий княжны письма приходили, хоть и редко. Тёплые, дружеские, но и сдержанные. Фёдор отвечал как мог, стараясь тоже оставаться «в рамках», махнув рукой на высокие материи и предоставив всё Господней воле.
Это было проще всего. Проще всего тонуть в повседневности мелких боёв, становясь бывалым солдатом, и не думать ни о Лизе Корабельниковой, ни о великой княжне, ни о родителях и сёстрах, о которых не было никаких вестей (хотя среди добровольцев то и дело появлялись бежавшие из Петербурга люди, контроль большевиков над передвижениями ещё не стал абсолютным).
Серый снег, дышащие гарью паровозы, теплушки, перегоны, станции – и каждый следующий день был похож на предыдущий.
Был ли то конец февраля? Или начало марта? Фёдор потерял счёт времени, хотя, как шутили кадеты (ибо формально до окончания корпуса им оставалось несколько месяцев, несмотря на погоны прапорщиков на плечах), грех нарушить Великий пост им не грозил, ибо еда и так поневоле была постная.
…В тот вечер они остановились в брошенной хозяевами усадьбе. И деревня, и старый барский дом давно опустели, имущество вывезено – значит, порадовался про себя Фёдор, этой семье удалось спастись.
Правда, остался массивный рояль.
Александровцы сноровисто разбежались по комнатам, развели огонь. Хоть и старый, дом был каменным, достаточно прочным. Наверх отправились пулемётные команды.
А потом Петя Ниткин деловито, с видом, словно планировал это давным-давно, сел к инструменту.
Музыку он, как уверял всех товарищей, ненавидел с детства.
Но играть умел. Хотя, конечно, пальцы утрачивали ловкость и сноровку, они теперь слишком привыкли нажимать на спуск.
Простая мелодия.
Тёплый ветер дует, развезло дороги,
И на фронте нашем оттепель опять,
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге,
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…
«Эх, Петя, Петя. Допоёшься когда-нибудь. Допрыгаешься с этими песнями оттуда…»
Но кадеты слушали. Песня нравилась, хотя, по меркам того времени, была слишком уж простой.
И – в эту ли ночь, во вчерашнюю или на прошлой неделе, кто знает? – Ирина Ивановна Шульц сидела у точно так же горящей печки, держа на коленях видавшую виды гитару, а вокруг в полумраке собрались бойцы их с комиссаром питерского батальона.
О походах наших, о боях с врагами
Долго будут люди петь и распевать,
Славную