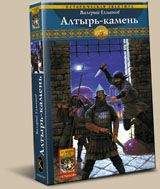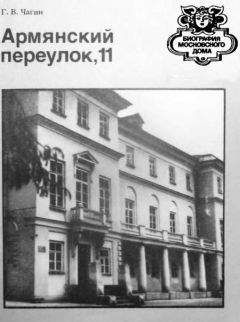— Откушайте, господа, чем боги послали, — и тенью выскользнула вон, никто на неё внимания не обратил.
Вняв совету бывалого человека, съели хлеб, а кашу не тронули, составили горшок на пол. Хоть и стемнело на улице, время было не позднее. Но от нечего делать устроились спать: господа втроём поперёк хозяйской кровати, мужик на сундуке. Заснули быстро, все, кроме Романа Григорьевича. Вот ведь странность — в санях глаза слипались, боялся задремать — а в тепле да на постели сон как рукой сняло. И на душе возникла не то тревога, не то просто тоска.
Сколько-то он лежал тихо, вслушиваясь в чужие звуки за стеной — там ещё не ложились. Потом совсем измучился, сел, нашарил в темноте сапоги — выйти из духоты на воздух, может, тогда сон придёт.
Вдруг снова отворилась дверь — тихо, без малейшего скрипа — вот чудо! Кто-то крупный куда больше кикиморы или клетника, быстро прошмыгнул в комнату, стал у стены. Роману Григорьевичу сделалось совсем жутко, он чиркнул спичкой…
Это была она. Та девка, что приносила ужин. Свет её испугал, она вздрогнула, подняла глаза…
Всё. Как пишут в любовных романах, «он понял, что погиб». Какая Лизанька? Какая Екатерина Рюриковна? Разве они существуют на этом свете? А если существуют, то зачем? Для кого? Уж во всяком случае, не для Ивенского Романа Григорьевича, потому что ему теперь никого другого не надобно. Он даже не подозревал, что бывает в природе такая красота. Он смотрел на эту красоту молча, как самый блаженный из идиотиков, и она смотрела на него, на бледном тонком лице лихорадочно горели огромные чёрные глаза.
Сколько это могло продолжаться? Надо было что-то сделать, хотя бы заговорить, и он заговорил. Спросил совершенно неромантическую глупость:
— Для чего ты здесь?
— Пришла посуду забрать, — еле слышно откликнулась она. И вдруг, будто поддавшись внезапному внутреннему порыву, бросилась к нему, схватила тонкими пальцами за плечи, зашептала отчаянно.
— Бегите! Барин, скорее отсюда, вам нельзя здесь оставаться! Вы погибнете, погибнете! Бегите в окно!
Он поверил ей сразу. Он не стал тратить время на расспросы, только бросил через плечо, уже тормоша спящих.
— Ты с нами?
— Нет! — она отшатнулась, будто испугавшись вопроса. — Я не должна! Бегите! Только тише, тише… И скорее же! Поспешайте!
Спросонья люди удивительно плохо соображают и мучительно медленно сбираются. Каторжник был ещё ничего, а Удальцев с Листуновым в спешке никак не находили своих вещей и не попадали в рукава.
— Готовы? Уходим!
Роман Григорьевич подскочил к окну, рывком сдёрнул одеяло. Квадрат лунного света упал на пол. И в этот миг издали, с улицы, донёсся протяжный, леденящий душу вой.
— Поздно! — выдохнула она.
Роман Григорьевич, занятый выламыванием рамы, обернулся на голос, и УВИДЕЛ. Увидел, как вспыхивают жёлтым огнём чёрные глаза, как нежное, благородное словно у настоящей барышни лицо вытягивается в острую мохнатую морду.
— Бежим!!!
Окно было узко — еле протиснулись, застревая плечами. Первым бежал каторжник — отвязывать лошадей. Ивенский — последний. Ему пришлось увидеть такое, что лучше бы не видеть никогда. Одно дело — оборачиваться волком самому, и совсем другое — наблюдать за превращением со стороны. В тот миг, когда Роман Григорьевич вывалился из окна в снег, она уже была зверем.
— Я вернусь за тобой — крикнул он ей.
Сани летели во весь опор, лошадей не надо было погонять. Стая неслась по следу, стая нагоняла.
— Не уйдём! — взвыл каторжник.
Агенты палили из трёх стволов — но что оборотням стальные пули?
Стая окружала.
Что может один волк против стаи волков? Об этом Роман Григорьевич думать не стал. С необыкновенной силой — еле выдернули потом — вогнал нож в днище саней, сбросил одежду, какую успел (ничего, на волках тоже болтались какие-то тряпки). Кувыркнулся в прыжке, зверем свалился в сугроб. И стал один против стаи.
Стая остановилась. Волки замерли, низко опустив головы — чуяли сильного. Только одна волчица, совсем молоденькая, припала на передние лапы и счастливо взвизгнула: свой!
А ещё был вожак. Он тоже привык считать себя сильным. Никогда прежде Роману Григорьевичу не доводилось драться зубами и когтями. Он нахватался ртом чужой шерсти и крови — это было ужасно. Зато зубы и когти помогали против оборотней не хуже серебряных пуль. И бежал, бежал по полю бывший вожак, оставляя кровавый след. Сперва на четырёх ногах, потом на двух. И стая бежала за ним. Последней была молоденькая волчица со светлой шерстью. Она не хотела уходить и часто оборачивалась.
Поскуливая и пошатываясь, Роман Григорьевич добрёл до саней. Через нож не кувыркнулся — перевалился кое-как, упал на спину. Без шерсти сразу стало холодно. Принялся одеваться — прокушенные руки почти не слушались и распухали на глазах, болело порванное плечо.
— Это что же такое, барин? Ты, выходит, оборотень? — спросил каторжный тихо.
— Я ведьмак, — с большим достоинством возразил агент Ивенский, стараясь не очень лязгать зубами. — Оборотничество — это своего рода зараза, она пришла к нам из Европы. Оборотень становится зверем против воли своей, когда на небе полная луна, и, обернувшись, перестаёт соображать как человек. Я же превращаюсь в волка по собственному желанию, при этом сохраняю ясность мысли и членораздельную речь… — он нарочно говорил длинно, ему казалось, стоит только замолчать — и сразу умрёшь. — Это надо же — в наше время, в каких-то сорока верстах от губернского города — и целое гнездо оборотней! Куда только смотрят местные власти? Ну, ничего, я на них управу найду! (На оборотней, или на власть?)
— Егерей надо прислать, — сердито вторил Листунов. — Пусть постреляют всех!
Тут Роман Григорьевич вдруг совсем побледнел, изменился в лице. Пальмирец даже испугался.
— Батюшки! Что это с вами? Вам дурно?
Но Ивенский уже взял себя в руки, нашёл отговорку.
— Укусы больно, не могу больше терпеть! — в этом он против истины не грешил, раны действительно отчаянно болели. — Иван Агафонович, где ваша фляжка? Придётся позаимствовать немного водички, тем более что Её Высочество пока ещё не прибило.
— Пожалуйста, — Листунов завозился. — Сейчас, одну минуточку… — он засуетился сильнее. — Сейчас, сейчас… Да где же она?!
— Потерял! — ахнул Удальцев. — Опять!
— Что значит «опять»?! Когда я что терял? — возмутился пальмирец.
— А револьвер на Буяне?
Вольно же им было переругиваться, когда начальство помирает!
Фляжка не нашлась. Скорее всего, выпала из кармана, когда они переворачивались в санях, может в первый раз, может во второй. Цел был малый алатырь, значит, Её Высочеству, пока ещё не прибитому, беда не грозила. С агентом Ивенским сложнее — он не был уверен, что доживёт до утра. Целая ночь, долгая ночь нужна была, чтобы простая колодезная водица стала живой водою.