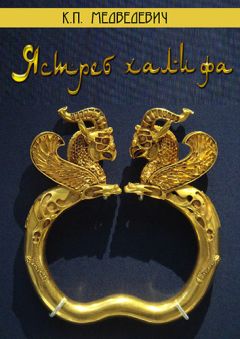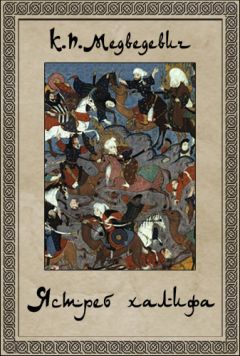Следуя указанным трепещущими под сквозняками огоньками дорожке она прошла через церемониальный зал и спустилась в первый внутренний двор. Все растения в горшках давно пожухли, изразцы затянуло плесенью и нанесенной муравьями землей. Айша свернула налево, в анфиладу длинных узких комнат с голыми стенами и пыльным полом, потом вышла на другой двор, с молчащим, забитым листьями фонтаном, и поднялась по широкой высокой лестнице в комнаты, в которых, несмотря на запустение, витали смутные запахи притираний и амбры. Видимо, это были комнаты харима — арки здесь покрывала низарийская резьба, а стены были выложены местными сине-белыми, тиджрийскими изразцами на высоту в половину человеческого роста.
Нерегиль ждал ее в маленьком угловом покое, мирадор которого смотрел в запущенный и заросший сад. Плющ заплетал деревянную решетку закрывавших проем дверей, и ярко-салатовые молодые побеги пробивались внутрь комнаты, торча усиками — словно тянулись к теплу жаровни, стоявшей у глухой стены покоя. Пол застилал толстый ковер, в углу лежала пара подушек, — их явно привезли слуги Тарега, дом был совершенно пуст и обобран при переезде. На ступеньке возвышения горели две последние лампы — дорожка кончалась здесь, у ног стоявшего в молчаливом ожидании нерегиля.
Айша сняла тюрбан и встряхнула головой, освобождая волосы — они упали ей на плечи и на спину тяжелой, оттягивающей назад голову волной. Не спеша выбрала три длинные шпильки, подумала и положила их в рукав непривычного по крою кафтана.
Тарег опустился на колени и отдал церемониальный поклон. На нем был парадный энтери, в котором он должен был явиться сегодня во дворец. Но не явился, прислав вместо себя письмо, адресованное лично ей, Айше. В котором просил о тайной встрече наедине. "Это мое последнее желание, госпожа".
— Это неслыханная дерзость, Тарег, — сказала она, глядя на покорно склонившегося перед ней нерегиля.
Он лежал у ее ног, не шевелясь, — широкие черные рукава делали его похожим на большую птицу. Волосы и руки призрачно светились в сумраке комнаты.
— А то, что ты сделал потом, — и вовсе преступление, — добавила она.
Тут он вскинулся, поднял голову и посмотрел на нее, запрокинув бледное до прозрачного сияния лицо:
— Я не позволил тебе совершить непоправимую ошибку, моя госпожа.
— Я не спрашивала твоего совета, Тарег. Я поступаю так, как считаю нужным, и если мне понадобится узнать твое мнение, я им поинтересуюсь.
Он упрямо нахмурился:
— Исхак ибн Хальдун — единственный из сановников Аммара, кто тебя не предал. Ты хочешь казнить человека, который остался тебе верен во времена смуты? Странный поступок, ты не находишь?
— А ты знаешь, кого защищаешь? — усмехнулась она. — Знаешь, чего он требует от меня вот уже второй год?
— Знаю, — кивнул нерегиль. — Я даже знаю, что свиток у тебя с собой.
Она отмахнулась — потом, мол, — и продолжила:
— Он истребил всю мою семью. А меня его люди не убили просто чудом. Ты полагаешь, что я должна с этим жить?
В ответ он лишь улыбнулся и покачал головой:
— Он верно служил престолу, подавляя мятеж. Ты предлагаешь наказать его за то, что он честно исполнял свой долг перед халифом и государством? Он преследовал не тебя, моя госпожа, а восставший против халифа род. Впрочем, и сейчас он служит не тебе — а государству.
— Почему же сейчас он преследует тебя? — усмехнулась Айша.
И он тихо-тихо ответил, склоняя голову:
— Потому что не без оснований подозревает, что я, в отличие от него, служу не государству. А только тебе.
Руки ее опустились, и шпильки с глухим стуком вывалились из рукава на ковер.
— Это… это… я даже не знаю, как это назвать…
Он молчал. Ей пришлось топнуть ногой:
— Теперь — теперь мне точно придется приказать тебе отправиться в заточение!
— Ты можешь приказать мне все, что угодно, — и я все исполню, — твердо сказал он, снова вскидывая на нее глаза. — И я с радостью отправлюсь в Алую башню — потому что там, моя госпожа, я буду ближе к тебе, чем в любом походе.
Он титуловал ее на аураннский манер — «хима», княгиня. Так обращается вассал к своему сюзерену.
— Я… так и не поблагодарила тебя за… верную службу… — голос ей предательски отказал в конце фразы. — Если у тебя есть желание — говори. В прошлый раз я позволила тебе поцеловать руку. Что ж… если…
Он медленно-медленно поднялся на ноги. Она осеклась.
И тут он схватил ее голову и впился губами в ее губы. Она попыталась вырваться — но эта попытка продлилась всего лишь мгновение. Потому что когда они сплелись языками, в глазах у нее потемнело и разум накрыла высокая темная волна страсти, в которой она мгновенно захлебнулась.
Оказалось, что все, что она раньше принимала за желание, жажду, счастье, наслаждение, муку ожидания, последнюю сладкую судорогу, радость, дыхание полной грудью, — все это было лишь бледными подобиями вот этого. Настоящего.
Он целовал ей каждую косточку, каждую подушечку пальцев, каждую ложбинку и каждую выпуклость ее изгибающегося, ожидающего, зовущего тела. В ней рождалось и раскрывалось — до перехватывающего дыхание страха перед неведомым — что-то огромное и теплое, похожее на созревание плода в чреве, только это новое было больше нее и словно бы раскрывало крылья сквозь ее тело. Глаза жарко туманило, и в них теперь отражалось гораздо больше теней и предметов, и она ясно видела окутывающее их двоих золотое, кипящее жаром, зарево, — и благодарно таяла в этом мягком, пожирающем, сладко ранящем, словно бы раскаленным шилом дотрагивающемся до сердца огне.
Зарево света дышало, как живое, она чувствовала, как оно опадает и вздымается с ударами его сердца — оно стучало прямо у ее груди, часто, часто, часто, но не лихорадочной захлебывающейся болезненной дробью, а неутомимым, сильным, расталкивающим кровь прибоем.
— Еще один… поцелуй… такой… — благодарно шептала она, и он послушно приникал к ее губам, — а она выгибалась, почти теряя сознание от острого, как боль, желания.
У него было совсем легкое, невесомое, но очень сильное и горячее тело, и от его движений она замирала и расходилась ахающей судорогой внутри — и таяла снаружи, под его губами, пальцами, гладящими, скользящими, целующими, нажимающими на ее тайные, ей дотоле не знакомые, углубления, дарующие страшное, до всхлипа, наслаждение. К последней вздрагивающей сладкой муке они пришли одновременно — со стоном, вцепляясь друг в друга острыми ногтями. Он выгнул спину, глубоко вздохнул — и благодарно упал ей лицом к щеке, принялся ласково, как кот, тереться, приговаривая что-то на своем родном языке, мягко трогая ее губами, нежно, как пушистый мех, щекоча дыханием. И тут впервые она поняла, что в ее родном языке нет слов, чтобы ответить ему — потому что все, о чем говорил аш-шари, все это было о другом, о других мужчинах и о других женщинах.
И тогда она сказала по аураннски:
— Я хочу, чтобы ты всегда был со мной. Ты меня не покинешь? Никогда?
— Никогда, — ответил он. — Я всегда буду с тобой. Я люблю тебя — клянусь Единым.
И, сказав так, запечатал ей губы нежным, мягким, целую вечность не отпускающим поцелуем.
Она проснулась раньше него — и сначала не поняла, где находится. Серые рассветные сумерки расползались по комнате, в которой еще теплились огоньки умирающих, не до конца вытопленных ламп. Он крепко держал ее за талию — и не выпустил даже во сне, когда она попыталась выскользнуть у него из-под теплого бока. Пришлось извернуться и изо всех сил, до боли в позвоночнике, вытянуть руку — достала. Ухватившись за самый край, она потянула к себе ворох лазоревого шелка.
И нащупала туго свернутый в узкую трубочку фирман. Шелковый витой красный шнур казался маленькой ядовитой змеей, на конце его качалась круглая печать красного воска. С отвращением дотронувшись до страшной бумаги — тут она быстро оглянулась: не ровен час, проснется, и что еще подумает! но нет, спал крепко, ровно, мягко дыша, — Айша снова попыталась вывернуться из стального объятия. Не тут-то было. И тогда, с улыбкой вздохнув, она снова потянула руку — и достала кончиком бумажного свитка до ближайшего еле бьющегося в глиняной плошке огонька. Киртас занялась моментально. Через несколько мучительных мгновений неохотно загорелся шнур, долго сворачивался черной гадкой ворсистой веревкой — тут ее всю передернуло, потому что напомнило нечто виденное ее новым зрением, — и наконец горячей красной лужицей растеклась печать с оттиском имени Фахра.
От запаха горящей бумаги он все-таки проснулся: раскрыв глаза, привстал на локте и долго непонимающе смотрел на прогорающий тугой свиток. А потом сморгнул — и понял, что его правая рука все еще обнимает ее бок. И распахнул свои серые глазищи так широко, что она поняла — не верит. Не верит, что она здесь и рядом с ним.