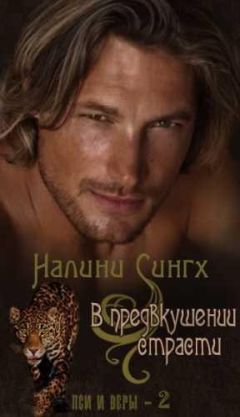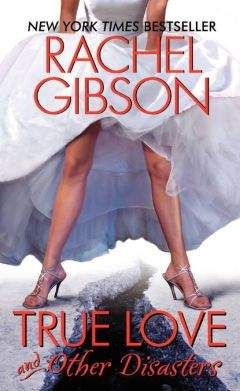ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. О БОЖИДАРЕ
Тянется, тянется утрамбованная тропа — не хувудваг, не страда, а так — ухабисто, но проходимо и езжаче, следует по ней малым ходом длинный обоз, хорошо охраняемый. Всадники с луками, топорами, свердами, в кольчугах — сзади, спереди, с боков. Бесплатная услуга, предоставляемая Неустрашимыми водящим такие караваны. Всадникам платят Неустрашимые. Неустрашимым платят караванщики, и это выгодно и тем, и другим. Несметные богатства приносит работорговля.
Когда-то, в незапамятные времена, рабов нужно было брать силой — окружать, ловить, драться, рисковать жизнью. И сейчас так бывает — нападет один правитель на другого, кто-то победит в драке, побежденных берут в плен. Кого-то выкупают богатые семьи, а люди попроще — сразу передаются с рук на руки караванщикам, уже в цепях. И еще долго такой способ получения рабов будет практиковаться в Африке южнее Сахары. Но на севере надобность в таких экстремальных методах на какое-то время отпала. Законы северных княжеств способствуют более простому, мирному, бюрократическому определению человека в рабство — за провинность. Украл ли, подрался ли свирепо, либо хулу возвел на кого-нибудь, на кого хулу возводить не положено даже по пьяни — ведут на суд к тиуну. Если есть у тебя, чем заплатить за вину свою — виру в пользу правителя и откуп в пользу пострадавших — хорошо, а нет, так выдадут тебя, связанного, пострадавшим. Не все пострадавшие могут позволить себе содержать холопа, большинство сразу связывается с караванщиками, а вира князю выплачивается из денег, от караванщиков полученных. И тянутся, тянутся обозы — в Прагу, в Киев, в Веденец, в Консталь. Время от времени какой-нибудь князь под нажимом церковников издает указ, запрещающий работорговлю, и работорговля уходит в тень — недалеко от давешнего своего центра, в какой-нибудь растущий по соседству залихватский лес, но чтобы рядом либо хувудваг, либо река. Среди церковников часто попадаются совестливые, хотя и небрезгливых хватает — кормятся некоторые от работорговли. А следующий князь либо отменяет приказ, либо смотрит на вялое его исполнение сквозь пальцы, поскольку в хоромах крышу надо чинить, да гостей приглашать, да хвесты им управляться давать, да с соседями драться за честь родной земли, патриотизм поддерживать, а средства откуда? У смердов брать — так они скоро сами себя в рабство продадут, так их уже ободрали. На купцах отыгрываться — так ведь купцы народ мобильный, будешь у них урывать, зарвешься — снимутся с места и больше не вернутся, мало ли торговых городов на свете! С ремесленников тоже не очень наживешься, они норовят все больше продукцией расплатиться, а горшки, плошки да скаммели — не дукаты все-таки, на них ожерелье супруге не купишь, и войску платить горшками — остроумно, конечно, но у войска с юмором плохо, шуток не понимают, да и шутить с вооруженными людьми опасно. И процветает работорговля несмотря ни на какие запреты и щепетильность духовенства.
Вот сидит в одной из повозок цепью к борту прикованная женщина. Чего ей в жизни не хватало? Муж, гончар, кормил да одевал. Дети не слушались, но все равно с детьми приятно было. Но молода она да горяча, двадцать два года ей. Захотелось ей перстень «как у Грачихи». Так ведь Грачиха-то замужем не за кем-нибудь, а за Кумякой-купцом, который из Консталя не вылезает, мехами торгует. Откуда у жены гончара такие средства? Нету средств. А перстень хочется. А что поп болтает, мол, воровать нехорошо — так кто ж попов слушает. Сунулась женщина в лавку, заговорила лавочнику зубы, он отвернулся, она хвать перстень! А он ее за руку — хвать! Прибегает стража. И сколько не кричала женщина возмущенно, что только посмотреть взяла, примерить, не поверили ей, к ответу привели, перед тиуном поставили. Мужа вызвали. Муж руки и шею сполоснул, рубаху почище напялил, явился. Видоков у тиуна целая дюжина набралась, все на жену показывают — она, она, взяла, хорла, украла! Видели и знаем, она такая, обязательно схвитит что-нибудь, ежели гвоздями не прибито! Хотя откуда им знать, какая она — они до этого с нею знакомы не были. Но тиун кивает важно и говорит гончару — можешь выкупить дуру свою из греха? (Тиуны часто путались в терминологии, да и то сказать — должность востребованная, столько образованных в целом свете нет, чтобы каждый тиунов пост образованным человеком заполнить). Гончар говорит — денег нет в данный момент, но, может, в рассрочку? Ежели в рассрочку, так я, наверное, потянул бы. А тиун ему в ответ — мы здесь не на торге, какая рассрочка, ты что, совсем спятил, глаза от гончарного круга в разные стороны разбежались? Нет, плати полностью. Гончар говорит — нету у меня! (А жене — «Ну, хорла, чтоб тебя дышлом где-нибудь прибило, гадина, воровка!» Жена плачет, осознает провинность, но слезами провинности не смоешь). А коли нету, говорит тиун, так вот, стало быть, поступает она в холопки истцу.
А истец-то торгует не золотом, а так, местными поделками, самый дорогой металл — серебро у него. А камни в перстне — не алмазы вовсе, а так, леший их знает, желтовато-сероватые какие-то, может даже не янтарь. Живет он вполне сносно, два холопа и одна холопка, и еще одной холопки не надобно ему. Платит он виру в пользу князя — немалую, надобно сказать. А женщину провинившуюся три княжеских ратника под его руководством ведут под белы руки к караванщику — на пристань, или в лесок, в зависимости от состояния и исполнения закона по поводу работорговли. И вот она прибывает в Прагу. По дороге ее кормили и поили, но так, что похудела она значительно. Также, сцепилась было она свободной рукой с соседкой, которая ее оскорбляла. На привале подошел караванщик и подъехали всадники, увидели два женских лица в синяках да ссадинах, допытались, какая из них первая драться начала, товар портить. И соседку тут же на месте, перед всем караваном, придушили и скинули с повозки. Чтоб другим неповадно было.
Вот другая женщина едет, совсем молодая. Надоела она мужу, посоветовался муж с тиуном, тиун говорит тихо — прибыль пополам. На том и порешили. Обвинил муж жену в измене, привел к тому же тиуну, тот на бересте накарякал чего-то, и оказалась женщина в повозке караванной.
Вот парень едет, смазливый. На охоте поймали — охотился в не ему принадлежащем месте. Разговор короткий — оказался в тот же день парень этот в обозе, и, судя по внешности его — кандидат на кастрацию и зачисление в евнухи где-нибудь в Андалузии.
Вот мужчина едет, видный, работящий, туповатый — княжьего отрока прибил, и дополнительно буянил в том же кроге, ставню сломал. Возможно, его продадут саксонцам, будет он у саксонцев земледелием заниматься или плотничать — он неплохой плотник, в Саксонии умение уважают — но вряд ли. Потому что фатимиды и Багдад платят щедрее прижимистых саксонцев. Будет в каменоломне надрываться по шестнадцать часов в сутки.
И вот она, наконец, Прага.
В предыдущем веке иудейский купец из Иберии, сын Якоба, разбогатевшего на работорговле, сам работорговлей не занимался — хлопотно и противно. Больше всего любил он мотаться по миру, смотреть, где кто и как живет, и записывать в путевой дневник. Для виду, и чтобы не сердить отца, транспортировал он какие-то тряпки из одной страны в другую, продавал, и даже какие-то прибыли получал иногда, но редко, а в основном финансировал поездки свои из семейного бюджета. Звали его Абрахам, в Андалузии арабы произносили «Ибрахим». Оставил он после себя путевых заметок великое множество, а был он парень наблюдательный, и тысячи историков последующих веков проклинали его имя, поскольку все их стройные теории по поводу мироустройства прошлого ссыпались в прах благодаря этим самым заметкам. Историкам ведь что в радость? «Такой-то правитель имел такие-то помыслы, правил так-то, экономически страна его отличалась от других тем-то и тем-то, ходил в походы на таких то, несколько раз ему в этих походах надавали по арселю, но он все равно был благородный и симпатичный, и из любви к нему народ нацарапал на стене что-то вроде „Мы любим нашего славного повелителя, ура“». Моду описывать прошлое в таком стиле ввел в свое время Плутарх. Но тут появляется этот дурной иудей без смысла и без стержня, делом своим прямым не занимается, а только пишет и пишет, и в связи с его писульками получается, что правитель этот помыслы имел — как бы побольше урвать, да кого бы в спину ножиком ткнуть, руководил как придется, экономически страна жила своей жизнью и платила дань Неустрашимым, в походы ходил не по экономическим причинам, а потому, что делать ему было совершенно нечего, благородством особенным не отличался, а больше трусостью и подлостью, а на стене народом нацарапано «хвой», проще и значительнее.
И рассуждают историки — на севере во время оно строить из камня несподручно было, поскольку холодно, а камень не греет. А вовсе, мол, не из-за того, что средств мало, и культуры тоже.