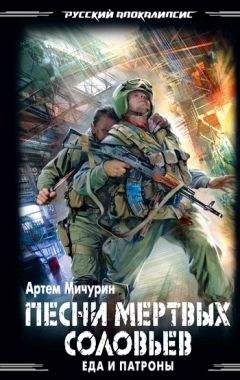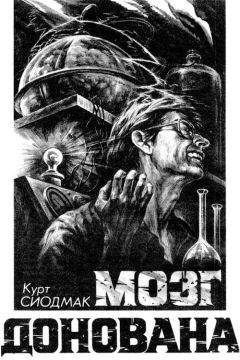Артем Мичурин
Песни мертвых соловьев
В ярко освещенной ртутными лампами комнате находились два человека. Их синие халаты резко контрастировали с ослепительной белизной кафеля и холодной серостью полированной стали. Только одна деталь выделялась здесь еще резче – багровая лужа под вскрытой черепной коробкой трехгодовалого ребенка.
– Так нельзя, Алексей Павлович, – качал головой человек, нервно шагая туда-сюда вдоль стены. – Так… неправильно.
– Подойди, – ответил второй. – Давай-давай. Смотри. Видишь? – Палец с выбеленной постоянными дезинфекциями кожей ткнулся в оголенный мозг, вызвав судорожную тряску пристегнутых ремнями конечностей подопытного. – Это патология. И она развивается. У одних в меньшей степени, у других – в большей. Но вся партия повреждена. Ты понимаешь? Вся!
– А как же результаты, показатели? Мы так долго этого добивались! Давайте подождем хотя бы год. Ведь вы не знаете наверняка.
– Знаю. Ждать нечего. Со временем проблема только усугубится. Образцы бесперспективны. К моменту достижения репродуктивного возраста они станут либо «овощами», либо неуправляемыми психопатами. Как ни прискорбно, но это факт.
– И что же теперь будет?
– От них придется избавиться. А мы, Евгений, – пожилой человек в очках вытер руку о полотенце и положил ее на плечо своему ассистенту, – продолжим работать. Одна неудача – еще не конец.
Самосвал остановился возле полузатопленной канавы. Водитель с пассажиром вылезли из кабины и принялись отвязывать укрывающий кузов брезент.
– Черт, ну и вонища. На хрена эту возню затеяли? Есть же печь.
– Хочешь, чтобы над базой черная копоть столбом стояла? Тоже мне, барышня кисейная. Развязывай живее.
Водитель вернулся в кабину, и гидроцилиндры зашипели, поднимая кузов.
Заросшая ряской вода вспенилась от сыплющихся в нее тел.
– Твою мать, – пассажир уперся кулаками в бока, глядя на поднявшийся из болотца островок. – Перебор.
– Не поместились, что ли? – высунулся из кабины водитель.
– Да. Нужно было в два захода сыпать.
– Хреново.
– И чего ты на меня уставился? Даже не думай. Я туда не полезу. Охота порядок наводить – бери лопату и херачь сам.
– Ты как со старшим по званию разговариваешь? – в шутку возмутился водитель.
– Можешь на меня рапорт подать, – со всей серьезностью ответил пассажир. – Но я этим заниматься не буду.
– Ладно, хрен с ним. Пусть падальщики разберутся. Да и жара… Через пару дней осядет. Залезай, возвращаемся.
Июнь две тысячи пятьдесят первого года был жарким. К полудню солнце пропекало землю так, что у ее поверхности играл воздушный муар, превращающий линию горизонта в размытую полосу склейки синего неба с желтовато-зеленой заокской равниной.
Утратившая былую сочность пыльная трава шуршала под сапогами и, распрямляясь, цепляла полы длинного плаща из тонкой, песочного цвета кожи. Укрывающая голову путника широкополая шляпа роняла тень на обветренное лицо, плечи и грудь, перетянутую по диагонали ружейным ремнем. Солнечные отсветы, в такт шагу, бежали по вороненым стволам ИЖ-43 и гасли, вспыхнув на дульных срезах яркими искрами.
От изнуряющей духоты спасала только стремительно пустеющая фляга с подсоленной водой да редкие порывы ветра. Но в последние полчаса и ветер перестал быть союзником. Вместо желанной свежести он приносил только смрад гниющего мяса, набирающий силу с каждой минутой.
– Господи боже, – путник замедлил ход, приближаясь к источнику зловония.
Над поверхностью скопившейся в канаве мутной воды поднималась гора детских тел. На всех были мешковатые длинные рубахи с короткими рукавами, когда-то белые. Кожа под палящим солнцем уже подернулась трупной чернотой. Закатившиеся глаза полуприкрыты. Из ртов вывалились распухшие языки.
Путник сделал еще несколько шагов к чудовищной находке и остановился, присматриваясь.
В куче мертвых тел появилось движение.
Крыса, соблазнившаяся ароматом падали, не поленилась одолеть водную преграду и теперь, довольная, сидела на трупах, грызя детскую руку.
Но путника заинтересовало другое – пальцы на руке шевелились.
Ты задавался когда-нибудь вопросом – что ждет тебя после смерти? Наверняка задавался. Каждый хочет знать. А еще каждый хочет попасть в рай. Туда, где молочные реки текут меж кисельных берегов и юные девы готовы исполнить любой твой каприз, стоит лишь пожелать. Я обязательно буду там. Слишком самонадеянно? Вовсе нет. Никакой самонадеянности, только логика. Ведь после смерти, как пить дать, что-то должно измениться. Иначе какой смысл? А учитывая тот факт, что я родился и вырос в аду… Кроме как в рай, деваться мне больше некуда.
Своих родителей я не знаю. Да и насчет собственного возраста не уверен. Валет рассказывал, что мне было года три, когда он меня подобрал. Может, и так, а может, выживший из ума старый хрен опять напутал с перепоя. Теперь уже не спросишь. Странное дело – никогда не любил этого говнюка, хоть он и был единственным взрослым, рядом с которым я мог не опасаться за свою жизнь, единственным, кто обо мне заботился. Но, сколько себя помню, я всегда знал – мы разные. И дело здесь не в том, что у меня желтые глаза, светящиеся в темноте, будто у собаки, и позволяющие видеть ночью не намного хуже, чем при свете солнца, а Валету спятившая от радиации мать-природа подарила лишь бесполезный отросток в виде недоразвитой третьей руки под правой лопаткой. Я никогда не испытывал к своему благодетелю сыновних чувств. Он был для меня просто наставником, знающим свое дело вором и аферистом, бравшим под крыло малолеток, которые могли быть ему полезны. Нас таких набралось четверо.
Память – странная штука. Совсем не помню первые два года в старом доме. Хотя Валет говорил, что я был смышленым, даже слишком смышленым для своего возраста. Только обрывки: колючий соломенный матрас в углу; забавный, похожий на конскую голову рисунок древесных волокон на закопченном дощатом потолке; пустырь рядом, с полусгнившей, черной от мазута цистерной, ее запах… Зато отлично помню переезд на новое место.
В те времена Арзамас еще не успел стать главным пристанищем отверженных, а проще говоря – выгребной ямой человечества. Нас было меньше половины. Основная масса будущих граждан этой клоаки обитала севернее, в хаотичном скоплении сросшихся воедино поселков, которое они именовали городом. Город Триэн. Красиво. Звучит как гитарный аккорд, мягко, тягуче. А в действительности это всего лишь три буквы «Н» – Новый Нижний Новгород. Оглушительно громкое имя для столь жалкого убожества. Из-за близости к своему мертвому прародителю там заметно фонило даже спустя полвека с окончания Сорокаминутной войны. Зато ни один лац[1] в Триэн носа не совал. Долгое время он оставался единственным крупным поселением, в котором мутанты были полноправными хозяевами. Вплоть до исхода на юг.