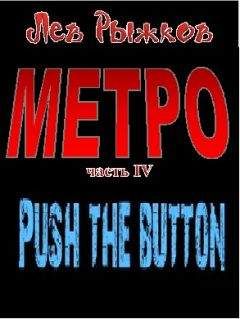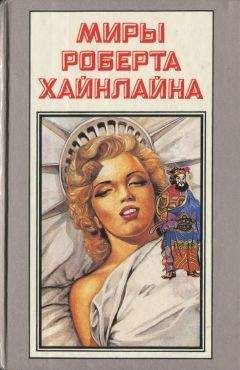У меня был еще один патрон, но что толку? Она слабела на глазах. Сколько ей еще осталось? Пять минут? Две? Меньше?..
Стрелять в нее бесполезно. Она и так уже почти ничего не чувствует от потери крови, вот-вот потеряет сознание. Ее открытые глаза вдруг стали задумчивыми, туманными…
Я чувствовал ее все слабее.
Я умру… Я все равно умру… Я умираю… Не может быть… Я умираю!.. Я!.. Сделайте кто-нибудь, хоть что-то… Не может быть… Я… умираю…
Отшвырнув револьвер, я извернулся и левой рукой выдернул из заднего кармана флягу. Свинтил крышку и щедро плеснул спиртом ей на губы.
Она зашипела, но пришла в чувство. А я зажал коленом ее руку, плеснул спиртом ей на ладонь и щелкнул зажигалкой.
Она заорала, когда взметнулись язычки пламени, облизывая ее пальцы, сверкая в золотом кольце, которое я когда-то уже видел, и в платиновом перстне с опалом, который узнал, и во многих других, которых не знал, но они были на ее пальцах…
Язычки опали, потускнели, пропали, но кожа покраснела, на глазах вспухая волдырями.
И она не переставала кричать. Заходилась в крике.
Я поймал ее щупальца, случайно шлепавшие по мне, уже почти нелипкие. Сам вцепился в их кончики.
Говори, сука. Где? Скажи, иначе я повторю. Повторю на руках, на шее, на лице… Где?!
Все еще воя, она уставилась на меня. Я видел ее глаза.
– Нет…
Я плеснул спиртом ей на лицо, она завыла опять, когда струйки попали в глаза, а я поднес зажигалку.
– Где?!
Образы замельтешили.
Черноволосая чёртова сука – та, вторая, вынужденная подруга и заклятая соперница – на ступенях, на широких ступенях крыльца, перед огромными двустворчатыми дверями своего дома, скалящиеся львы на ручках, и шум прибоя за спиной, и мужчины в пурпурных плащах, двое поднимают пустое кресло на колесах, а следом еще двое – с легкостью поднимают, удерживая под руки Старика, такого непривычно обрезанного без своего кресла, между этими длинноногими красавцами… Только тебе все равно уже ничего с этим не поделать, ничего не изменить и он таким неизбежно станет, потому что…
…Холодные синие глаза и золотые волосы, жесткие губы и строгие черты – с тенью той, прежней… горькое семечко прошлого, вдруг наполнившееся жизнью… и теперь он не откажется от этого… нет… Теперь нет… Этот рай он не разрушит, его никто не разрушит, ни ты, щенок, ни кто другой… только я сама, я смогу, когда-нибудь смогу – потом, не сейчас, потому что сейчас…
…Гулкий простор огромного храма, в высоких стенах есть окна, но сейчас эти окна темны, снаружи ночь, и свет только от свечей в центре, озаряя стены со смешными картинками выдуманных богов, – и тех, кто во плоти, кто на самом деле правит этим миром… здешней его частью… женщины, только женщины, все с непокрытыми головами и распущенными волосами, слева – солнечно-золотые, справа – воронова крыла… Не все, кто мог бы и желает здесь быть, лишь те, кто чего-то стоит, кто признан и допущен, но и их так много, что едва умещаются в главном нефе огромного храма, а в центре она, золотоволосая и голубоглазая, и иногда эти глаза становятся льдистыми, и молись, чтобы не тебя буравил этот ледяной взгляд, ведь и среди полубогов некоторые равнее, а боль равна для всех, а может быть, и смерть… И надо быть очень осторожной, чтобы не выдать себя раньше времени, пока создаешь втайне свою собственную маленькую империю, а она все еще считает тебя своей лучшей и самой преданной помощницей, рабски покорной…
Я попытался зацепиться в этом потоке, кинуть ей обратно образ второй паучихи. Широкие ступени, высокие двери с львиными головами, ощущение простора за спиной, с тихим дыханием прибоя, – и карта, развернутая на столе карта, какой я ее помнил, – шоссе и реки, городки и поселки – где она?
Где это?! Где?!!
Но бросать было некуда.
Я не чувствовал ее, и она больше не стонала. Глаза безжизненно уставились в рассветное небо.
Кажется, я хлестал ее по лицу. Давил на грудь, заставляя вдохнуть. Дышал в ее еще теплые губы, соленые от крови, – и ловил, ловил, ловил хоть какое-то дыхание…
Или просто сидел рядом, давая порывам разрядиться вхолостую, потому что все равно это ничего не даст?
Мне больше не вытащить из нее ничего. Ни образа. Ни про то место, ни про Старика…
Она мертва. Ниточка оборвана.
Я поглядел на нее. Тело было мертво, но кровь была еще живая, еще влажная, незастывшая. А вот глаза уже совершенно мертвые, стеклянные.
Рядом с ней была упавшая фляга. Спирт вылился. Я закрутил носик – зачем? – и сунул ее в карман. Подобрал зажигалку – зачем? – а потом револьвер.
Счистил с Курносого – зачем? к чему это теперь? к чему теперь вообще что-либо?.. – налипшую землю.
Кажется, больше здесь ничего моего нет…
Я смотрел на ее руку, покрывшуюся волдырями. По-мужски крупная, по-мужски сильная, и мужские кольца и перстни удобно сидели на ее пальцах, словно по ним и делали.
Одно из колец, самое простое, было знакомо. Узкое, серебряное, с крошечными бриллиантовыми крупинками по центру. Такое же, как то, что на руке у Катьки. Только крупнее.
Который из ее слуг носил это кольцо до того, как оно попало на эту руку? Кто-то из тех, кого мы сбили машиной? Или тот, кого порубило пулями у ворот? Или тот, кому я прострелил голову?..
Скорее всего, он. С развороченной головой.
Пока я пытался стащить кольцо, накрепко присосавшееся к пальцу, с другого пальца слез перстень. Крупнее, сидел легче. Я двинул рукой, чтобы отшвырнуть его в сторону, но в последний миг не разжал пальцы. Платиновый перстень, с опалом…
Я сунул его в карман вместе с кольцом. Поднялся. Еще раз огляделся.
Кажется, все, что тут было моего, я взял… Кроме самого главного.
Я еще раз огляделся. Курносый в руке… Зачем? Зачем он мне теперь? Зачем теперь все?.. Револьвер в руке мешал, потом я сообразил, что его можно сунуть во внутренний карман плаща. Там его любимое место.
Небо уже ощутимо посветлело – белое, сплошь залитое облаками. Голые ветви чернели на нем. Кусты, земля…
Пустота. Полная пустота.
И холод. Господи, как же холодно… Я поежился. Одежда стала ледяной и жесткой. Ветер налетал, окатывая холодом, словно ледяные щупальца касались меня, но теперь не изнутри, а снаружи. Будто она была еще здесь, еще рядом, растворившись в мире вокруг меня. Мстила, хотя бы так.
Я побрел – ноги сами понесли меня обратно. Вдоль оврага, по тропинке, откуда пришли они. Туда, где через ручей упала сосна.
На бревне я поскользнулся и чуть не рухнул в воду. Выбравшись на ту сторону, я шел, куда несли меня ноги – они сами помнят нужную дорогу.
Но на этот раз я ошибся. Я помнил, что должна быть полянка с вывернутым деревом, но ее все не было, не было, а потом, как-то вдруг, деревья расступились – и я оказался уже на опушке леса, но не с той стороны, откуда уходил. Сбоку.