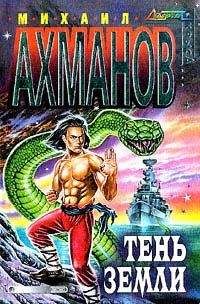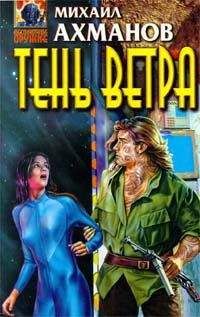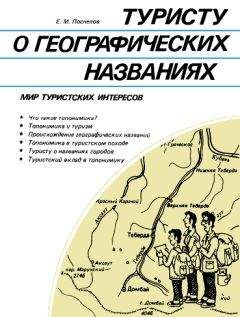Выпятив нижнюю губу, он подергал ее пальцами – детская привычка, оставшаяся со смоленских времен; потом бросил монетку в мешок, припоминая, что это кожаное вместилище вроде бы называют кошельком. Он был доволен, так как, едва успев приземлиться, обрел права гражданства в ФРБ. У него имелись мандат, фамилия, имя и даже назначение – служить во славу Бога Отца, Сына и Святого Духа; он успел обзавестись деньгами, одеждой и кое-какой биографией – за счет почивших в бозе брата Рикардо и Утюга. Священник был достойным человеком, и смерть его не радовала Саймона, но, как говаривал Чочинга, отрезанный палец на место не пришьешь. Брат Рикардо – Поликарп Горшков ушел в Погребальные Пещеры, и Ричард Саймон мог занять свободную вакансию.
Он стащил свой серый комбинезон и нательное белье и облачился в одежду брата Рикардо, сунув в карман кошелек. Рубаха была маловата, но штаны пришлись впору, да и просторная ряса тоже; кобура с «рейнджером» и нож были под ней совсем незаметны. Обувь Саймон менять не стал, только присыпал свои башмаки пылью – если не приглядываться, они не слишком отличались от сапог. Потом он занялся сумками: сложил в них все имущество из ранца, бросил поверх белье, комбинезон и книги, а ранец зашвырнул в овраг; поразмыслив, снял с запястья браслет, с пояса – кобуру и тоже сунул их в сумку.
Едва он успел покончить со всеми этими делами, как на дороге возникло пыльное облачко. Оно приближалось с севера, со стороны ближайшего городка, и вскоре Саймон разглядел небольшой фургон, который тащила пара мулов, и возницу, хлеставшего их кнутом. Подняв мачете покойного Рикардо, он ткнул Утюга в шею, затем бросил оружие, шагнул к трупу отца Домингеса, опустился на колени, сложил руки у груди, понурил голову и принял удрученный вид. Таким его и застал возница – рыжий плечистый парень с россыпью веснушек на щеках и здоровенным синяком под глазом. Чем-то он напомнил Саймону Дейва Уокера – то ли огненной мастью и веснушками, то ли своей лукавой рожей.
Не обращая внимания на парня, он продолжал творить свою безмолвную молитву. Пекло жаркое солнце, мулы шумно отфыркивались и поводили боками, возница, преклонив колени напротив Саймона, вздыхал и часто крестился. Наконец, выждав приличное время, он произнес:
– Стреляли…
– Это верно, – откликнулся Саймон, перекрестил отца Домингеса и встал.
– Вот несчастье-то… беда… – протянул парень. – Гниды огибаловские, тапирьи отморозки… Ведь платим же, платим, по сотне песюков со двора… И отморозкам платим, и Хайму-кровососу, и Гришке-живодеру, и Хорху с его крокодавами, а толку – ни хрена! Вот батюшку пришили… А ведь обещались двоих прислать… – Рыжий перевел взгляд на Саймона. – Как же теперича, отец мой, мы тебя с кибуцниками разделим? Стенка на стенку пойдем, как из-за пастбищ? Или церкву у них спалим?
Саймон молчал, осмысливая новую информацию. Кое-какие имена были ему знакомы – к примеру, Хайма-кровосос являлся, вероятно, доном Хайме-Яковом, главой Финансового департамента, а Гришка-живодер – не иначе как доном Грегорио-Григорием, заведовавшим Общественным здоровьем. Но огибаловские гниды, крокодавы и кибуцники не вызывали знакомых ассоциаций. Ясно было лишь одно: ко всем этим личностям рыжий возница любви и почтения не питал.
Наставив на него палец, Саймон поинтересовался:
– Ты кто таков? И откуда?
– Павел-Пабло, а по-простому, по-нашему – Пашка Проказа, отец мой. Ты не сумневайся, ничем таким я не болен, а Проказа – оттого, что проказлив… – Зеленые глазки лукаво сощурились. – Проказлив бываю во хмелю… Я, батюшка, сам-то семибратовский. Давеча гонец к нам прискочил, из Дуры – мол, ждите двух попов, для вас и для кибуцников, и будут те попы в городке на двадцать шестой сентябрьский День… А может, на двадцать седьмой, но будут наверняка. Мол, приласкай лешак дубиной, ежели не так! Вот наш паханито, староста дядька Иван, меня и послал навстречь… чтоб, значитца, лучшего попа к себе от кибуцников перенять. Я в дуру приехал, встал у корчмы и жду. День жду, другой, а на третий огибаловские прискакали, выспросили, чего жду, и подвесили мне фонарь, – туг Проказа огладил синяк под глазом, – чтоб попов вернее высмотреть, ежели ночью пожалуют. Ну, я без обид, сам понимаешь, отец мой, их – четверо, я – один, у меня – старый винтарь, у них – карабины… В общем, утерся, плюнул и поехал. Думаю, встречу святых отцов по дороге… Вот и встретил!
– Отцом меня не зови, – сказал Саймон, размышляя над нехитрой Пашкиной историей. – Отец Домингес – вот он, мертвый лежит. А я – брат Рикардо… Рикардо-Поликарп Горшков из Рио-де-Новембе.
– Из столицы, значитца… ученый человек… – Проказа покивал с уважением. – Как же ты, святой брат, от огибаловских отбился? Они ж изверги лютые! Родную мать не пощадят!
У Саймона было уже заготовлено объяснение.
– Остановились мы, и я в кусты пошел… по нужде, понимаешь? Тут они втроем и налетели; двое – к отцу Домингесу, а третий – ко мне. Мула прикончил, а я его положил. Но к батюшке на помощь не успел. Убили его… И дали деру, когда я вылез из кустов. Вроде как перепугались…
– Ну! – восхитился Проказа, оглядывая могучую фигуру Саймона. – Ну, даешь, святой брат! Видать, до рясы в бандерах ходил? В бойцах? А может, в стрелках либо отстрельщиках?
– Ходил, – согласился Саймон, решив, что причастность к отстрельщикам авторитета ему не убавит. Кажется, в этом странном краю, в уругвайской саванне, где жили мулаты и русские – а может, и кто-то еще, – бойцы и стрелки ценились не меньше попов. Пока он размышлял над этим обстоятельством, Пашка направился к оврагу, к мертвому мулу и бандиту. Присмотревшись, рыжий хлопнул себя руками по бокам.
– А я ведь этого знаю! Знаю, чтоб мне в Разлом попасть! Огибаловский, точно! Из бригады Хряща! К нам за данью ездил, блин тапирий! И в корчме скалился, когда мне фонарь подвесили! Ловко ты, брат Рикардо, башку ему отчекрыжил…
– Бог помог, – пробормотал Саймон, взял на руки тело отца Домингеса, положил в повозку, на сено, а рядом пристроил свои сумки. Пашка к тому времени вернулся с седлом и упряжью мула и с двумя окровавленными мачете, обтер клинки сухой травой и тоже бросил в фургон, ворча, что не стоит добру пропадать – ножики, мол, неплохие, да и седло потянет на пару песюков. Затем он вежливо поддержал Саймона под локоть, когда тот забирался на сиденье, сел сам, развернул упряжку, и они покатили на север, по дороге в городок со странным названием Дура.
Рыжий был человеком разговорчивым, тянуть его клещами за язык не приходилось, и Саймон, покачиваясь на жестком сиденье, припомнил слова Наставника: сев на скакуна удачи, не шпорь его, зато гляди, как бы не свалиться. Дела и впрямь разворачивались удачно: похоже, Четыре звезды, затмившись в ярком солнечном свете, не позабыли о нем и продолжали слать свои дары. К примеру, этого рыжего парня, болтливого, как попугай…