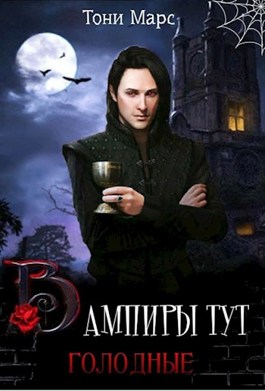будет так… бездушно и жестоко.
Тот, кого она любила, толкал ее в объятия другого. Что она могла чувствовать в этот момент, кроме отчаянья?
— Господин… — прошептала она, обняв себя руками, — умоляю, пожалуйста, не надо. Я на всё согласна! На всё! Я не прошу стать вашей женой, не прошу места наложницы, просто позвольте остаться рядом. — но граф не мог смотреть на нее, отводил глаза, боясь, что, увидев ее такой несчастной и разбитой, передумает.
— Я не могу. — надломлено ответил он.
— Я знаю, что прошу слишком много, но пожалуйста… пожалуйста… — Степан упустил тот момент, когда она оказалась совсем рядом и рухнула на колени, заливалась горькими слезами, цепляясь за него. — Позвольте родить вам ребенка! Просто быть вашей кухаркой или подопытной… что угодно, только не гоните меня…не отрекайтесь…
Как горько стало от того, что она так унижалась, склонилась, словно рабыня, пытаясь вымолить прощение.
Но единственный, кто должен извиняться — это он сам.
— Маниэр, прошу тебя, не надо. — тихо проговорил он, пытаясь поднять ее.
— Пожалуйста… я сделаю что угодно, буду, кем прикажете, но пожалуйста… — она склонилась так низко, что почти касалась лицом земли, сжалась в маленький несчастный комочек и захлебывалась в слезах, в горькой правде, которую никак не могла принять.
Степан же задыхался. Как в тот день, когда София умерла, как каждый раз, когда видел кровь.
Ворот рубашки душил, воздуха в комнате будто не стало и граф опустился на колени рядом с Маниэр. Обнял ее и зашептал тихо “прости”, заглушаемое ее всхлипами.
Прости, прости, прости…
Его любимая плакала, плакала от того, что им не быть вместе никогда, и от этого сердце болело в два раза сильнее.
Но Степан верил, что поступает правильно.
Прости, прости, прости…
Пусть она ненавидит его, пусть презирает, но будет жива и здорова. Это всё, чего он желал.
Прости, прости, прости…
Степан знал, что не представляет из себя ничего особенного — она быстро забудет его и полюбит своего жениха и всё у Маниэр будет хорошо.
Прости. Прости, если сможешь…
Они сидели так, пока она не успокоилась. Затем Маниэр отстранилась, стыдливо отводя заплаканные глаза, неловко встала и качаясь, вернулась на свое прежнее место, встав рядом с дедом.
— Это твое окончательное решение, граф Кифен? — сдавленно спросил старейшина, тяжелым взглядом наблюдая за внучкой.
Бедная, бедная девочка. Отдать сердце тому, с кем у нее даже нет связи. Разве может быть что-то ужаснее?
— Так будет лучше для всех. И для тебя, Маниэр. — сдавленно проговорил Степан, и слова, словно камни, тяжким грузом ложились на сердце.
— В день, когда у тебя отнимут титул, она отправится домой. До этого же пусть прислуживает, как обычно. — сказал Доллир, опечаленно глядя на внучку.
Степан растерянно смотрел на Доллира, и слова старейшины казались злой шуткой. Старик видел, в каком состоянии сейчас Маниэр, но не позволил ей остаться в гнезде. Словно пытался добить и Маниэр, и Кифена.
Граф молча протянул девушке платок, она уязвлено прижала руки к груди и отвела взгляд, глотая беззвучные слезы. Но не приняла единственной доброты, что он смел себе позволить.
— Ему нет и четырёхста, он хороший вампир. — утешающе проговорил Доллир, — Он станет заботливым мужем и никогда тебя не обидит. А в клане после вмешательства герцога Касара дела пойдут в гору, и детишкам твоим голодать не придется и сама сыта будешь. — заботливо добавил старейшина, встав и неловко стирая платком дорожки слез с ее лица.
— Вдвое старше меня. — безучастно обронила Маниэр, с силой стиснув губы, чтоб не разрыдаться снова.
Плевать она хотела на возраст жениха, клан и голод. Всё, в чем она нуждалась — это оставаться рядом с графом Кифеном. И эта болезненная, неправильная любовь изводила Маниэр.
Она знала: граф прав, все вокруг правы — не стоит им оставаться вместе, но она — вампир. Кто знает, как много ей повезет прожить?
Маниэр была готова отречься от клана, от собственно имени, от всего на свете, если бы это позволило ей остаться рядом с Кифеном.
И пять дней — не более, чем попытка оттянуть неизбежное, но она была безмерно благодарна, что дед дал ей хотя бы это.
Маленький шанс запечатлеть в своем сердце еще немного счастья.
Когда графу вернут титул, она, вероятно, будет уже давно замужем. И на этом ее история первой и единственной любви оборвется.
А у Маниэр останется то, о чем она будет всю жизнь сожалеть. И огромная дыра в сердце.
Доллир отпустил их, и они в болезненной тишине отправились домой.
Маниэр горько подумала, что больше у нее нет дома — теперь замок снова казался до ужаса чужим.
Она не разговаривала. Молчала, не обращая внимание на идиота Веце, не замечая Кифена, не думала ни о чем.
Просто внутри стало до ужаса пусто. В эту звенящую пустоту погрузился и ее разум. Маниэр никогда особо не считала свою жизнь удачной или благополучной, но теперь не радовало уже ничего.
Целые сутки она провела в пришибленном трансе.
Степану было больно на нее смотреть, но и помочь он ничем не мог. Граф боялся, что даст Маниэр ложную надежду, потому продолжал бездействовать, молча наблюдая и мучаясь.
Но Веце бояться было нечего — как сказал бы попаданец в другой ситуации, пацан окончательно поехал кукухой.
Полукровку такая Маниэр бесила не меньше обычной — грустную и несчастную вампиршу было жалко, а испытывать жалость к своему заклятому врагу оказалось как-то неприятно.
И он выбесил её. Вывел настолько, что она вернулась в реальность и сломала Веце только-только сросшуюся руку.
После этого жалеть Маниэр он больше не мог. Слишком уж дорого ему обошелся прошлый раз. А Веце, он вы знаете какой — меркантильный.
Девушка ругалась, поливала полукровку отборными матами, такими, которые прежде и не осмелилась бы произнести, и ее отпускало. От грязного сквернословия становилось легче, а почти поросячий визг Веце немыслимым образом вернул ее тягу к жизни.