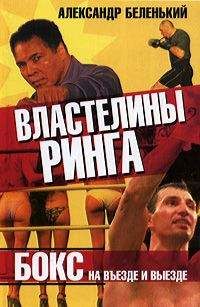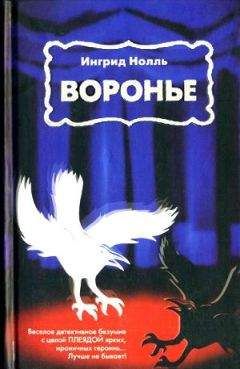Убеждая себя, он сделал шаг, еще шаг. Хлопнула за спиной дверь. Орв вздрогнул. Будь он дома, нарвал бы травок успокаивающих, воскурил душистый дым, погрузился в медитацию и разобрался в себе. Но людям Пустоши и людям Омеги чуждо самокопание. И даже генерал Бохан ни на миг не остается в благословенном одиночестве.
Научники куда-то ушли из лаборатории. Орв пожал плечами и тоже собрался выйти, но вдруг что-то позвало его снизу, из-под пола. Он прислушался. Звали молча, отчаянно и настойчиво, не надеясь достучаться. Звал кто-то из его народа.
Орв проделал несколько дыхательных упражнений, чтобы унять сердцебиение – внезапно дал о себе знать возраст.
Где вход в подземелье?
В лаборатории светло, окна закрашены белой краской, электрические лампы горят под потолком. Столы заставлены колбами, ретортами, газовыми горелками, возгонными аппаратами. В стороне на полу – центрифуга. Микроскопы. Когда только попал в Омегу, Орв ими заинтересовался, потом остыл… Сколько ни приближай, не увидишь скрытого.
Да где же?.. Застекленные шкафы с книгами, инструментами, препаратами. Банки, заполненные формалином, – в них плавают прозрачные, изжелта-зеленые органы всевозможных тварей. А вот новый образец. Сердце, почти человеческое… Орв растерянно присмотрелся: большое, в полтора кулака взрослого мужчины, кажется, не четырехкамерное…
Зов усилился. Шаман возобновил поиски тайного хода.
Погруженное в формалин сердце напомнило ему что-то, виденное давно. Он попробовал толкать шкафы – не поддавались.
Сердце мутанта. Вот что это.
Орв зарычал – тихо, чтобы не услышали. Оставалось надеяться, что соплеменник попал в руки научников уже мертвым, но надежда эта была слабой и глупой.
Стену напротив шкафов почти полностью закрывали плакаты с изображением органов людей и мутафагов, строением клеток разных тканей… Орв в отчаянии сорвал плакат – тот поддался неожиданно легко. Бумагой была оклеена стальная дверь.
Внизу не чувствовали Орва, но продолжали беззвучно кричать. Дрожащими руками он отодвинул щеколду. И как это раньше не заметил двери? Впрочем, уже не важно. От порога в подземелье уводили ступеньки, достаточно широкие и удобные. Орв взялся за перила, и сердце его снова зашлось в приступе.
Орву очень не хотелось спускаться и видеть то, что он увидит. Очень. Орв понимал: его жизнь изменится. Она менялась уже не раз и не два, но в этот раз, Орв чувствовал, последний ее отрезок подходил к концу. А дальше – смерть, в глаза которой шаман смотрел, но не верил, что она реальна.
Еще можно было повернуть назад, выйти из лаборатории, отыскать Бохана, выслушать его успокаивающую ложь и попытаться забыть.
Орв отругал себя за малодушие. Никогда еще шаманы не пасовали перед трудностями и лишь улыбкой приветствовали неизвестность.
Подобрав полы балахона, Орв начал спуск.
Внизу отчаялись – зов сменился неслышным поскуливанием. Орв уже одолел лестницу и брел мимо клеток, рассчитанных на существ разных размеров, от мелкого мутафага до панцирного волка, маниса, человека… мутанта. У крайней клетки Орв остановился.
Мутант не мог в ней стоять, только лежать или сидеть. Сейчас он, обхватив руками колени, замер в позе эмбриона. Подземелье освещалось скудно. Клетка была закрыта на висячий замок. Орв остановился, не решаясь окликнуть соплеменника.
Пленник страдал. Тело его было истерзано экспериментами, и невыносимо болела душа.
Повинуясь привычке шамана, Орв раскрылся навстречу страждущему. О да, пленник нуждался в помощи. Не только в свободе и лечении – он жаждал беспамятства. С закрытыми глазами он продолжал видеть кровь, в тишине подземелья – слышать выстрелы.
Орв схватился за сердце и осел на пол.
Он узнал пленника, узнал кровь, пролитую в его памяти.
Гоп, нерадивый ученик, оставленный вместе с родиной много сезонов назад. Его, Орва, племя. «Не открывай глаза, – безмолвно взмолился Орв, – не смотри на меня, предателя. Ибо вина моя велика. Не открывай глаза. Дай мне набраться смелости взглянуть тебе в лицо».
Пленник почувствовал чье-то присутствие. Поднял голову.
В первый миг он не узнал Орва. Он вообще не понимал, что находится в подземелье Омеги, думал, что перед ним научник, пришедший пытать или убить. Законсервировать сердце или, может быть, мозг. Содрать шкуру, набить чучело. Потом взгляд Гопа прояснился, кровь и вспышки выстрелов ушли из его разума.
– Учитель?! – прохрипел Гоп. – Скажи, учитель, это ты?
Орв с трудом поднялся, дрожащей рукой прикоснулся к надежному замку́.
– Это я, Гоп. Я пришел на твой в-вов. Скаф-фы, что делали с тобой?
Гоп, извернувшись, подполз к дверце, через решетку потянулся – тронуть учителя, проверить, не видение ли. Гоп плакал. Он заговорил, сбиваясь и по нескольку раз повторяя одно и то же, обвинял себя, оправдывал себя и лишь о главном не мог поведать – о судьбе стойбища. Орв выслушал – это велел ему сделать долг шамана, – потом, как мог мягко, заставил ученика умолкнуть, коснулся сознания, зарылся в память.
Гоп спал. Он видел тревожные сны, которые вместе с ним смотрел учитель.
* * *
Были только звуки. Отделенный от соплеменников, запертый в чулане, лишенный общества и света, Гоп жадно вбирал звуки. Окружающий мир менялся быстро: он слышал и земляков, и резкий говор омеговцев. Потом – больше омеговцев. Потом – только омеговцев.
Его соплеменники молчали.
В темноте он потерял представление о времени, мерил сутки мисками каши, кружками воды да позывами к мочеиспусканию, но путался и сбивался со счета.
Он чувствовал себя предателем.
Он был здесь. Они, его соплеменники, были там.
И все потому, что Гоп назвал себя учеником шамана, соврал, приукрасил – учитель Орв прогнал его, недостойного, хитростью отправил в племя, и стал Гоп пастухом. Омеговцы хотели шамана, но шаман-то ушел, покинул стойбище! Бросил соплеменников на произвол судьбы…
Гоп всегда приукрашивал. Он хотел нравиться. А в тот момент, когда светловолосый палач допрашивал его, Гопа мучила жажда, очень мучила, он ноги омеговца поцеловал бы за кружку воды.
Наверное, рассветало. Почему-то казалось, что там, за стенами, – рассвет.
Он слышал команды, понимал их смысл и бросался на стены, телом пытался пробить их – но не мог. Обессиленный, рухнул на колени. Грыз пол, молотил по нему кулаками – но земля не разверзлась, не приняла его.
А соплеменники шли на расстрел.
Он кричал, пока караульный не заткнул ему рот кляпом.
А соплеменники становились на краю рва.
Он давился слезами, выгибался дугой, жилы на шее вздувались от небывалого, задушенного вопля.
А соплеменники закрывали глаза, повернувшись к палачам спинами.