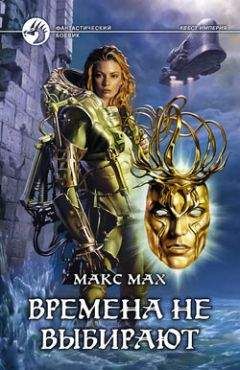«Тогда зачем я ее позвал?»
Он хотел было спросить у нее сигарету – своих-то у него еще не было – и в этот момент, опустив на мгновение взгляд, увидел ее губы и вдруг вспомнил. Воспоминание было резким, как удар молнии, и таким неожиданным, что он, по-видимому, потерял на какое-то время контроль над своими мыслями и действиями.
– Я помню вкус твоих губ, – сказал он, переживая такое огромное потрясение, что и сравнить его было не с чем. – Ты… Я… Было очень больно и вдруг…
Это было, собственно, все, что он смог вспомнить. Тьма, боль и… прикосновение этих губ. Он был уверен, что этих, потому что… Впрочем, додумать он не успел. Он снова почувствовал вкус ее губ, но это было уже не воспоминание, а самая что ни на есть правда жизни.
* * *
Когда Андрей Иванович, дед Урванцева, был еще жив, как-то под праздники, выпив не то чтобы лишнего, но достаточно, чтобы «отпустить удила», он рассказал Кириллу про тридцать восьмой год. Никогда не рассказывал и вообще обходил молчанием это время, а тут вдруг начал говорить и эмоций своих по этому поводу не стеснялся. Только курил больше обычного, буквально прикуривая одну папиросу от другой, и пил, разумеется. Как без этого?
В мае тридцать восьмого начался «сибирский погром». Взяли Эйдемана, Блюхера, Голощекина[159] арестовали и прадеда Кирилла – Ивана Николаевича, который к тому времени был уже наркомом авиационной промышленности. А в июне замели и деда – молоденького лейтенанта ОСНАЗА. Просидел Андрей Иванович, в принципе, недолго, всего три месяца, хотя это как посмотреть. Формально – недолго, а по сути, как сказал тогда Урванцеву дед, если бы не железное, «сибирское» здоровье, ему бы вполне хватило и этих одиннадцати недель. Однако в сентябре, после вмешательства Троцкого, прадеда из списка вычеркнули и освободили, и почти сразу же вышел на свободу и его сын Андрей, но если наркома прямо из «Бутырок» послали в Крым, то лейтенанта, которого впопыхах даже из РККА не уволили, услали «дальше родины», на Дальневосточный фронт. Там он и сидел безвылазно до того, как зимой сорокового Второй ОСНАЗ в полном составе не перебросили на западную границу. А потом был Освободительный Поход, и до Питера, где все эти годы ждала его девушка, которой суждено было стать бабушкой Урванцева, дед добрался не скоро.
«Поверишь, Кирилл, – сказал ему тогда дед, опрокинув очередную рюмку водки. – Трое суток из койки не вылезали! Потом Гришка родился… но если по уму, то старались мы так, что родись дюжина, я бы тоже не удивился».
Кирилл тогда просто посмеялся вместе с дедом, но понял его много позже. Думал, что понял. Но по-настоящему понял только теперь, потому что на самом деле дед ему тогда не о здоровых инстинктах мужчины и женщины рассказывал, а о любви. Такая вот история.
* * *
Слова. Много слов. Без логики и порядка, что в голову придет, что сердце подскажет.
– Меня зовут Деби…
– Деби? Нет, не говори, дай угадаю!
– Гадай! – смеется она, а за окном плывет южная ночь, сияют огромные средиземноморские звезды, и ветер с моря, пахнущий солью и далекими странами, колышет тонкие занавеси распахнутого в ночь окна.
– Мне сорок четыре года, и я с двадцати лет на войне…
– Ты по-немецки говоришь совершенно без акцента…
– У вас, в Германии, пиво хорошее, хотя наше не хуже…
– А я не из Германии, – снова смеется она, и от ее смеха сладко сжимается сердце и начинает петь кровь. – Я тебя увидела…
– А потом вдруг синие глаза, я чуть не утонул…
– Я родилась в Александрии…
– А потом я поехал в Красноярск…
– А вот русского я не знаю. Дед хорошо по-русски говорит, а я никак…
– Нет, – говорит он. – И никогда не был. Не случилось как-то. Наверное, тебя ждал…
Ну конечно! Он ждал эту девушку с черными, как эта ночь за окном, волосами и испытующим взглядом синих глаз. Ее и ждал. Как родился, так и начал ждать и искать, разумеется, потому что не такой человек был Урванцев, чтобы стоять в сторонке, пока не объявят белый танец. Искал, везде искал, а нашел здесь. Судьба, наверное.
– А потом ты… Я кричала, как сумасшедшая…
– Я тебя…
– И я тебя…
Слова, много слов и – нежность. Такая нежность, о которой он даже не догадывался, не представлял, что такое существует на свете, и что он, Кирилл Урванцев – железная машина войны, киборг краснознаменный, на такое способен. И страсть, но такая страсть, о какой и слышать не приходилось. И сердце, переполненное любовью, страстью и нежностью, само превратившееся в любовь, страсть и – нежность.
* * *
Трех дней не получилось, «куда нам, нынешним, до героев былых времен!». Уже снова смеркалось, когда голод погнал их «к людям». Разговор, который начался накануне и так, по большому счету, и не прерывался, продолжился уже за ресторанным столиком, где что-то ели – не замечая, что именно, – и что-то, наверное, пили, но все равно продолжали говорить, глядя друг другу в глаза, не способные оторваться один от другого, прекратить говорить, перестать любить. Однако за разговорами вспомнилось вдруг обещание, данное Виктору, и оба, не сговариваясь, поняли, что тянуть с визитом уже нельзя. Просто неудобно.
Оно, конечно, есть такие моменты в жизни – даже если длятся они, растягиваясь на часы и дни, – когда плевать на условности. На все наплевать, лишь бы минуты эти длились и длились и никогда не заканчивались, но, с другой стороны, и обязательства – будь они неладны! – тоже часть нашего существования, и если ты положил единожды, что взятые на себя обязательства следует выполнять, то никуда от этого уже не денешься. Таким Урванцев если и не родился, получив чувство ответственности по наследству, то уж точно, что таким человеком сделала его жизнь. Однако, как оказалось, не один он был такой. Свои – ну очень похожие на его собственные – принципы имелись и у Деборы.
– А в моей семье по-другому и не получилось бы, – улыбнулась она. – Ты еще моего деда не знаешь. Вот познакомишься, поймешь, почему его у нас иначе, как Железным Максом, не называют.
Деби достала из сумочки крохотный лилового цвета приборчик, оказавшийся чем-то вроде мобильного телефона, и, коротко переговорив по-английски с неизвестно где сидящим диспетчером, объявила, что через сорок минут на «Вашум» («Вашум»?) отправляется челнок («Челнок?») и их захватят с собой. После этого она убежала наверх – собрать вещи, а Урванцев, у которого вещей вроде бы не было, остался ее ждать за столиком в ресторане. Он проводил взглядом стройную фигурку, пока Деби не скрылась за дверью, и в первый раз за все это время осмысленно посмотрел на стол перед собой. Есть он уже не хотел, хотя так и не понял, съели они хоть что-нибудь из того, что было подано – «Кем?» – им на стол, или нет, однако ополовиненный графин с коньяком навел Урванцева на мысль, что еще пятьдесят граммов ему никак не помешают. Если он и был пьян, то не от вина, как говорится.