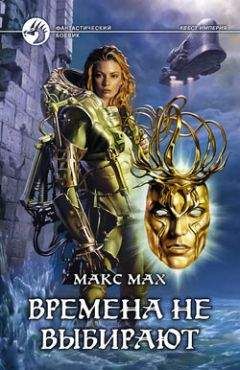Кирилл налил себе в бокал коньяк, понюхал темно-коричневую жидкость – пахла она незнакомо, но от того не менее замечательно – и пригубил. Вероятно, он уже его пил (ведь кто-то же успел сократить содержимое графина наполовину), хотя совершенно этого не помнил, но так или иначе, а попробовав коньяк сейчас, только головой покачал. Сказочный напиток, лучше не скажешь. Допив коньяк, Урванцев закурил, взяв сигарету из лежавшей на столе пачки (сигареты были американские, но такого сорта он не знал), оглянулся на дверь, хотя ожидать Дебору было еще рано, и налил себе еще.
В душе Урванцева царили «разброд и шатание», а сознание – попади он сейчас в руки психиатров – вполне подпадало под определение «спутанное», но сам он, естественно, понимал, что на самом деле все с ним в порядке. Любовь, возможно, и род душевного недуга, но совсем в другом смысле. А все прочее решится как-нибудь. Не без этого. Ведь задание свое он, судя по всему, все-таки выполнил, командование претензий не имеет (даже орденом наградили и в звании повысили), а по ранению ему и в любом случае отпуск положен.
Урванцев выпил коньяк – медленно, с наслаждением – вернул бокал на стол и потянулся за следующей сигаретой, но в этот момент – «Бежала она, что ли?» – вернулась Деби и, сообщив, что платить не надо, потянула его куда-то через служебные коридоры гостиницы. «Идем, идем, Кирилл», – говорила она, загадочно улыбаясь. «Идем, – соглашался Урванцев, испытывавший ни с чем не сравнимое удовольствие, слыша, как она, грассируя, произносит его имя. – Идем». И шел за ней, уже догадываясь, что челнок это не автобус, курсирующий между отелем и городом («Каким, кстати?»), а что-то совсем другое, чем его, Урванцева, и хотят удивить. Ну что ж, он был готов соответствовать ее ожиданиям. Экая, в сущности, малость. Разве трудно нам поохать и поахать, доставив немного удовольствия любимому человеку? Совсем не трудно, даже приятно. А челнок, который ожидал их на просторном газоне («Крикетное поле?») позади гостиницы, и в самом деле, не был автобусом. И вертолетом он не был. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это, но всей видимости, тяжелое и какое-то угловатое чудо чужой техники предназначено отнюдь не для атмосферных полетов, из чего, в свою очередь, вытекало, что «Вашум» – что бы это ни было – находится не на Земле.
«Удивить хочешь? – подумал Урванцев, входя вслед за Деби на борт космического аппарата. – Ну-ну… Валяй, если хочется. Твое право. Или ты, Витя, точки над „i“ расставляешь? Тоже дело».
* * *
Ну что сказать? Если Виктор хотел произвести на Урванцева впечатление, он своего добился. Вполне. Расставил, выражаясь фигурально, свои точки над всеми возможными «i». Хорошие точки, жирные. И захочешь проигнорировать – не сможешь. Сами в глаза бросаются. Как там утверждает народная мудрость? Лучше один раз увидеть? Так точно, лучше. И Урванцев увидел. Сначала он увидел челнок и вроде бы подготовил себя к тому, что «продолжение следует», но реальность превзошла все его – даже самые смелые – предположения. Да что там Урванцев! У него по роду службы воображение было лишь от сих до сих, но то, что открылось глазам Кирилла, когда челнок, нечувствительно вспоров атмосферу Земли, вырвался на простор открытого космоса, оставляло далеко позади даже неуемную фантазию творцов блокбастеров, что своих, советских, с «Петрофильма», что «ихних», забугорных – из Голливуда.
«Шаис», как назвала его, не вдаваясь в подробности, Деби, на поверку оказался колоссальным космическим кораблем, таким огромным, что суперкариеры серии «Голдуотер» – самые большие корабли в истории человечества – показались бы рядом с ним всего лишь детскими игрушками. И это не было преувеличением. Что-что, а оценивать относительные размеры на глаз Урванцев умел достаточно хорошо, чтобы понять: если и не «Голдуотер», то уж ударный авианосец «Тельман» (или его брат-близнец «Тольятти») наверняка поместился бы целиком в том ангаре – или как это здесь называется? – куда влетел их с Деби челнок. И, что характерно, в створе «дверей», открывшихся перед ними во взметнувшемся ввысь, словно какой-нибудь Эверест, борте «Шанса», не застрял бы тоже. Ну и все остальное здесь было под стать размерам: и запредельная, решительно невероятная техника – все эти лифты, совершенно непохожие на свои земные аналоги, и возникающие прямо в воздухе, движущиеся, буквально живущие объемные изображения, похожие на голограммы, как телевидение на наскальную живопись, и вызывающая, избыточная роскошь отделки, как будто и не на боевом корабле находишься, а, скажем, на океанской яхте какого-нибудь сошедшего с ума от власти и богатства американского миллиардера. Да и то, любая из тех яхт, которые если и не воочию, то уж по фотографиям были Урванцеву хорошо известны, сравнения с этим дворцом Мидаса никак не выдерживала. Впрочем, как ни странно, безвкусным, как, скажем, эклектичная роскошь Венской оперы, все это не казалось. Просто на ум сразу же приходила мысль о совсем другой – не совсем человеческой, или вовсе нечеловеческой, – эстетике. Вероятно, в рамках этой неведомой Урванцеву культуры все эти под невероятными углами соединяющиеся плоскости стен и полов, выполненные из полированного камня, металла и чего-то похожего на цветное стекло, и причудливая кривизна сводов, окрашенных в резкие, плохо – на человеческий взгляд – сочетающиеся цвета, и обилие разнообразных предметов, иногда вполне узнаваемых (мебель, статуи, растения), а иногда незнакомых и совершенно непонятных, – все это было приемлемо или даже красиво. Однако в любом случае подобная роскошь плохо сочеталась в представлении Урванцева с тем, что такое боевой корабль. А то, что это именно военное судно, Кирилл понял даже раньше, чем Деби шепнула ему, что «Шаис» («Или все-таки „Вашум“?» – потому что Деби называла корабль то так, то эдак), это ударный крейсер. Крейсер? Возможно, хотя по опыту Урванцева, крейсера должны были выглядеть как-то иначе. Однако военных – хоть своих, хоть чужих – с гражданскими не спутаешь. Во всяком случае, Урванцев их всегда узнавал сразу, даже если – по случаю или намеренно – те были одеты в гражданское платье. А едва ли не все встреченные им существа были в хоть и незнакомого покроя, но, несомненно, военных мундирах, да и вели себя именно как военные, что наводило, между прочим, на нетривиальные мысли о том, что милитаризм есть одно из наиболее базовых и универсальных явлений любой культуры. Война, она война и есть, хоть под этими небесами, хоть под иными.
В общем, следовало признать, что правы оказались аналитики Зиберта. За Хрусталем угадывалась огромная сила даже тогда, когда он, по-видимому, находился в затруднительных – что бы это ни было на самом деле – обстоятельствах. А здесь и сейчас Урванцев увидел эту силу воочию. И единственное, что его удивило, – кроме того, разумеется, что от всего увиденного голова уже кругом шла, – так это то, что абсолютное большинство встреченных им на крейсере людей были именно людьми, то есть выглядели вполне по-человечески.