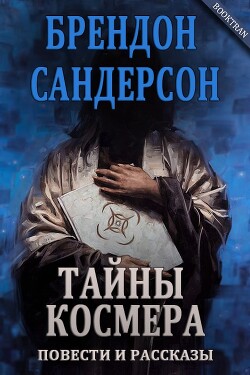придут и застанут спящей, казалась уж совсем невыносимой.
Измучившись вконец, Шай встала и извлекла из груды на столе очередную стопку бумаг, повествующих о жизни Ашравана. Охранники, игравшие в карты за этим же столом, подняли удивленный взгляд. А один даже, рассмотрев болезненную усталость на ее лице и покрасневшие, запавшие глаза, кивнул на лампу.
– Яркий свет заснуть не дает? – спросил он сочувственно.
– Вовсе нет, – ответила Шай. – Просто мысли из головы не идут.
Она вернулась в постель и, листая страницы, на весь остаток ночи погрузилась в жизнь Ашравана.
Досадуя на отсутствие книги с записями, она взяла чистый лист и принялась делать новые заметки. Позже она добавит их в книгу. Конечно, если ей эту книгу вернут.
Похоже, она наконец-то поняла, почему Ашраван утратил юношеский оптимизм.
Отчасти, конечно же, причиной тому повсеместные в империи коррупция и бюрократия. А отчасти – недостаток уверенности в себе самом. Но эти причины не были главными.
Основной причиной краха всех прогрессивных устремлений Ашравана стала сама его жизнь.
Жизнь во дворце, в этой частице империи, напоминала работу часового механизма. Здесь каждый выполнял свою роль. Конечно, не все его детали функционировали безупречно, но в целом механизм со своей задачей справлялся.
Ашраван вовсе не был ленив, но жил в праздности, а побороть продажность и косность в империи можно, лишь собрав всю волю в кулак. Но стоит ли напрягаться именно сейчас? Что мешает в следующем месяце властно потребовать неукоснительного приведения в жизнь всех намеченных перемен? Но с каждым месяцем молодому императору все труднее было справляться с громоздкой бюрократической машиной, а вот плыть по течению великой реки, именуемой Империей Роз, все легче, все приятнее.
Таким образом, Ашраван становился все менее требовательным, все более снисходительным, и все больше его заботили убранство и красота дворца, а вовсе не жизнь подданных. И все больше значимых в империи руководящих функций подминали под себя арбитры.
Шай вздохнула. Разумеется, описание это было весьма упрощенным, поскольку совсем не учитывало, каким доподлинно человеком был император и каким стал. Хронология событий ничего не говорила о его характере, о любви к дискуссиям, о взглядах на красоту или о том, что он писал весьма посредственные стихи и страстно ожидал от окружающих самых искренних похвал.
Хронология событий также ничего не говорила о высокомерии императора или о его тайном желании стать кем-то другим, лучшим. Не говорила, почему он снова и снова перечитывал собственный дневник. Может, выискивал в нем тот переломный миг, то уникальное событие, после которого он ступил на неверный путь?
Если Ашраван задавался этим вопросом, то ответа так и не нашел. Ведь редко можно с уверенностью сказать, где именно в жизни ты оступился. Люди меняются медленно, незаметно. Крайне редко случается тот шаг, что уводит тебя с дороги на зыбкую почву. Ты делаешь все новые шаги, и кажется, что вернуться на прежний путь можно в любой момент, как вдруг ты осознаешь, что давно заблудился. И вот ты уже в другом городе, оторопело гадаешь, почему тебя подвели дорожные указатели.
Дверь в комнату отворилась.
Шай сорвалась с кровати, едва не уронив бумаги.
За ней пришли!
Но нет!
Сквозь витраж вполне отчетливо пробивался солнечный свет, а стражники позевывали и потягивались.
Всего лишь наступило утро.
В комнату ввалился клеймящий. Похоже, снова с похмелья и, как нередко бывало прежде, в руках держит какие-то бумаги.
«Сегодня он что-то раненько, – подумала Шай, взглянув на карманные часы. – Но с чего бы вдруг? Обычно он запаздывает».
Клеймящий сделал надрез, и руку Шай, как обычно, пронзила жгучая боль. Клеймящий молча запечатал дверь и выскочил из комнаты, будто отчаянно спешил на важную встречу.
Шай потрясла головой в задумчивости.
Всего лишь через минуту дверь открылась вновь и вошла раздраженная Фрава. Стража отсалютовала ей, а она с хлопком опустила книгу на стол.
– Проснулась? – нетерпеливо произнесла Фрава. – Писцы свое дело сделали. Принимайся за работу.
И тотчас вышла из комнаты.
Шай облегченно вздохнула. Ее уловка сработала, и в запасе есть несколько недель.
День семидесятый
– Получается, этот символ, – Гаотона указал на сделанный Шай эскиз будущей главной печати, – означает конкретный момент времени. Семь лет назад? Я не ошибся?
– Вы не ошиблись, – подтвердила Шай и сдула пыль с только что вырезанной печати. – Схватываете на лету.
– Еще бы. Ведь я, можно сказать, ежедневно подвергаюсь хирургическому вмешательству. И какими именно ножами оно осуществляется, мне в высшей степени не безразлично.
– Изменения никоим образом не…
– Никоим образом не отражаются на мне и не отразятся в дальнейшем. Ты меня в этом уже много раз заверяла. Помню. – Он протянул руку к Шай. – Если порежешься единожды, ранка затянется, но, если одно и то же место резать каждый день, непременно образуется шрам. И с душой человеческой ведь то же самое?
– С душой все совершенно иначе, – ответила Шай и прижала очередную печать к руке Гаотоны.
Он ей так и не простил сожженного шедевра Шу-Ксена. Она отчетливо ощущала это при взаимодействии. Гаотона был не просто разочарован в ней – он на нее злился.
Со временем гнев угас, и восстановились нормальные рабочие отношения.
Гаотона поднял голову:
– Все-таки странно.
– Что именно вам кажется странным? – спросила Шай, отсчитывая секунды по карманным часам.
– Помню, как сам себя уговаривал стать императором. И… и злился на себя самого. Матерь Света!.. Неужели он и правда обо мне так думал?
Наконец-то эта печать заработала!
– Да, – ответила она. – Считаю, что именно так он к вам тогда и относился.
Печать действовала пятьдесят семь секунд. Неплохо!
Осталось совсем немного. Скоро Шай сможет понять императора, и все детали мозаики встанут на свои места.
Каждый раз, когда Шай создавала что-то значимое – картину, скульптуру или изящное ювелирное изделие, – еще до завершения работы к ней неизменно приходила отчетливая картинка окончательного результата. И тогда доработка становилась делом рутинным.
Сейчас произошло именно так: перед мысленным взором возник истинный образ императора, вся его душа, пусть и с незначительными пробелами. Шай так много прочла об Ашраване, что он стал ей близким, почти другом. И потому задача довести начатое до логического завершения превратилась для нее в необходимость.
А с собственным побегом можно и подождать.
– Эта – та самая? – спросил Гаотона. – Та самая печать, с помощью которой ты пыталась несколько раз выяснить, почему он согласился стать императором?
– Да, – вымолвила Шай.
– Его дружба со мной… – пробормотал Гаотона. – Получается, что решение явилось результатом наших долгих дискуссий и… И еще причиной стало чувство стыда, которое возникало у него в разговорах со мной.
– Несомненно.
– И печать взялась?
– Да.
Вставший было Гаотона опустился на стул.
– Матерь Света… – прошептал он.
Шай положила печать к тем, что уже успешно опробовала.
За последние недели ее, подобно Фраве, успели навестить все арбитры. И каждый сулил горы золота, потому что жаждал единолично исподволь управлять императором. Только Гаотона не пытался подкупить ее.
В голове не укладывалось,