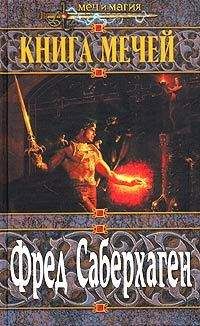Взамен увесистой бутыли, которую Никита на сегодняшнем приеме с поклоном вручит принцессе как свой скромный дар, доставленный из лангобардских земель, он должен с заходом солнца передать в распоряжение пришлого знахаря-моавитянина отряд императорской гвардии, сопровождавший Анну из Константинополя к жениху.
Дело осталось за малым — заехать по дороге в несколько лавок-эргастириев, уладить торговые дела и подобрать у здешних мастеров-ювелиров свадебный дар, достойный порфирородной принцессы, который окажется отличным дополнением к фалернскому, будь оно проклято, вину…
* * *
В лавке, тесно уставленной тугими тюками бобровых, куньих и соболиных шкур, кроме хозяина крутился какой-то смерд, который при появлении Сонгвара тотчас шмыгнул за дверь. Хозяин с уважением, но без угодливости поклонился новому посетителю.
— Это Зачиняй, лучший киевский гончар, господин, — пояснил он, имея в виду исчезнувшего смерда (мол, ко мне в лавку кто попало не ходит). — Его кувшинами торгую во всем городе я один.
Сонгвар молча кивнул в ответ и прошел в глубину полутемного помещения. На дальних полках и вправду стояло множество каких-то пестро расписанных горшков. Он вспомнил про недавно купленную изысканную и страшно дорогую белоглиняную посуду, привезенную из самого Багдада, и ухмыльнулся.
— И эти вот сосуды — лучшее, что делают в Киеве?
— Таких кувшинов нет больше ни у кого, — в ответе купца сквозила осторожная обида. — Молоко в них не прокисает, вода не портится, а когда в такой кувшин наливаешь вино или мед, он поет, словно горный ручей. Боги покровительствуют киевским мастерам, они знают секреты, недоступные другим, даже в далеких ромейских землях.
В подтверждение своих слов купец взял с полки один из горшков, подошел к лежащей на боку огромной бочке, открыл кран и подставил горлышко под струю. По лавке рассыпалось веселое мелодичное журчание. Купец протянул кувшин Сонгвару, и тот сделал несколько больших глотков. Медовуха упала в живот и споро побежала по жилам. Сонгвар довольно кивнул:
— Когда мои смерды привезут тебе новый товар, отгрузишь им этих горшков два или три челна.
Прерывая беседу, скрипнула дверь. В лавку вошел царьградский посланник — изнеженный тонкогубый грек, по тамошнему господскому обычаю одетый в расшитый бабский сарафан, — чью молодость не могла скрыть даже ухоженная черная борода. Грек пошевелил длинным носом, капризно поморщился и, сверкнув десятком перстней, небрежно, одними пальцами, махнул купцу, изображая приветствие.
* * *
Едва войдя в эргастирий, Никита отшатнулся, словно от удара. По большой комнате, заставленной тюками и коробами, перекрывая резкий запах свежевыделанных шкур, разносилась жуткая вонь давно немытого тела. Ее источником был, как несложно догадаться, беседующий с купцом варанг. Не простой наемный головорез, задержавшийся в городе проездом, а, судя по храпящему у коновязи породистому италийскому коню, представитель новой русской знати, один из стратиотов архонта Владимироса.
Главным свидетельством высокого положения дикаря было ужасное украшение — поверх грязной рубахи на его груди сиял огромный золотой крест, явно взятый варангом из разграбленной херсонесской ризницы. Никиту едва не стошнило. Сделав знак купцу «зайду позже», он сделал шаг назад. Купец понимающе кивнул и возвел очи горе.
Оказавшись на свежем воздухе, Никита поднес к носу платок, пропитанный ароматными маслами, вздрогнул, вспоминая варанга, и подумал: вот кому на самом деле, прости Господи, не помешало бы сегодняшнее крещение. Картина, которую он наблюдал на берегу Днепра, вновь встала перед глазами, и Никита, не в силах сдержаться, прыснул в тончайший мосульский шелк. Растерянные мужики и бабы, голые вперемешку с одетыми, стояли в воде — кто по пояс, кто по грудь, — не понимая толком, чего же от них хотят, и испуганно озирались по сторонам, в то время как с берега, из последних сил пытаясь удержаться в рамках торжественного обряда, их окормляли беглые херсонесские священники.
Кстати, нужно посоветовать епископу Анастасису, чтобы он, когда будет «крестить» туземцев в Новгороде, хоть там разделил бы мужчин и женщин. Ведь не святое таинство сегодня проходило, если разобраться по сути, а едва ли не свальный грех. Хотя положа руку на сердце нужно признать, что в этом варварском лицедействе, устроенном специально для приехавших в Киев ромеев, было больше грустного, чем смешного.
Отвлекаясь от мрачных мыслей, Никита оглядел короткую улицу, вымощенную по обычаю северян деревянным настилом, и снова пришел в уныние. Прилепившийся к вершине холма крошечный акрополис даже вместе с земляным валом и частоколом вместо стены был, наверное, меньшего размера, чем русский квартал в Константинополе. Передвигаться здесь в носилках ввиду узости проходов между глухими деревянными заборами было почти невозможно, а всадник из Афинянина, историка и философа, как из гетеры катафрактарий. Придется идти пешком — хорошо еще, что до резиденции, куда все же нужно будет зайти до начала пира, чтобы надиктовать и отправить сообщение о том, что Русь окончательно порвала с языческим прошлым, отсюда не больше ста шагов. А лавка, торгующая золотыми украшениями, — вот она, прямо напротив.
В лавке ювелира крутился взъерошенный юноша, один из обитателей бессчетных ремесленных слобод. Судя по мятой, не до конца еще высохшей одежде, это был один из тех горожан, что были обращены сегодня в истинную веру. Неофит вертел в руках нарядное монисто. Никита скрипнул зубами. Украшение было не дешевенькой примитивной поделкой из армянского квартала в столице ромеев, изготовленной в расчете на неприхотливые вкусы здешних варваров, но настоящим произведением искусства, с грифонами и сказочными львами, филигранно отлитыми на поверхности чередующихся золотых и серебряных дисков.
То, за что в Константинополе просят жалких тридцать оболов, совсем недавно здесь продавали аж за четверть золотой номисмы. За эти деньги в Киеве можно купить столько мехов или воска, что их не увезут и два моноксила. Но с недавних пор здешние мастера вдруг, словно по волшебству, освоили изготовление золотых украшений, в которых не зазорно появиться на императорской трибуне гипподрома во время праздничных игр, и выгодная торговля стала хиреть на глазах. Волшебство ли это или просто особый дар обитателей здешних земель, Никита не знал, но он бы голову дал на отсечение, чтобы дар, лишающий его трех четвертей торговой прибыли, покинул эти края навсегда.
…День, проведенный в бесконечных хлопотах и церемониях, подходил к концу. Больше всего на свете греку хотелось вернуться в свою резиденцию, подняться в атриум и, сбросив тяжелый парадный хитон, упасть на матрац, набитый тончайшим гусиным пухом. Отпрыск знатного рода, лучший ученик Афинской академии, патрикий и сибарит, за недолгое пребывание в русских землях он страшно устал от здешней дикой, непробиваемой и главное — дурно пахнущей и вечно угрюмой толпы.