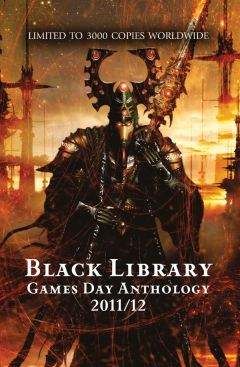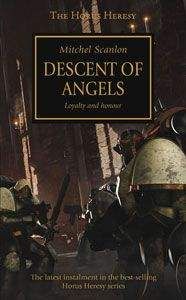Завидев крупного варгора с красными глазами и слюнявой пастью, Матильда развернулась и резко махнула секачом, отбивая несущийся на неё кинжал. От удара по руке прошла дрожь. В тот же момент она бросилась вплотную к противнику и, отводя секач назад и в бок, вцепилась пальцами ему в морду, стараясь дотянуться да его красных глаз, словно это были рубины.
Гор отмахнулся от неё и ударом огромного кулака свалил Матильду на колени. Он высился над ней, готовясь нанести смертельный удар.
Матильду шатало, перед глазами всё плыло. Смутно она почувствовала, что вот-вот умрёт, и от этого её неожиданно бросило в яростный экстаз.
Он воззвала к Зигмару и, оглядываясь в поисках противника, с трудом поднялась с колен.
Но гор уже исчез. На его месте стоял высокий мужчина. В тяжёлых, тусклых от дождя доспехах, он ярко выделялся среди прочих людей. Сквозь пелену ливня виднелось угрюмое лицо с грубыми чертами — сочувствия не больше чем у чугунной болванки. Фрагмент священного писания был туго привязан к его лбу ремешками из морёной кожи. Мощные руки, закованные в серую сталь, сжимали тяжеленный боевой молот. И кровь — кровь убитого гора — грязными ручейками стекала с рукояти.
У Матильды словно выросли крылья. Если до этого она и так вопила не переставая, то теперь её крики стали ещё громче.
— Отче! — проревела она, коснувшись пальцами ожога в виде кометы на лбу. Повсюду вокруг неё фанатики подхватили крик. — Отец Всемогущий!
Лютор Гусс из Церкви Зигмара, человек, давший Матильде всё и столько же потребовавший взамен, если и слышал её, то виду не подал. Он шагал вперёд, размахивая огромным молотом, будто пёрышком; лицо было непроницаемо, словно железная маска, тонкие, упрямо сжатые губы разомкнулись лишь раз, только чтобы вымолвить одно-единственное слово.
Матильда была далеко и не слышала, что он сказал. Она снова сражалась, рубя своим секачом во славу Зигмара. В суете и грохоте праведной битвы слова утрачивали всякий смысл.
Но слово было сказано. В вихре жестокой резни он тихо произнёс его, и тот час же молот ожил вновь.
— Кольсдорф, — вымолвил он, и голос его был полон горечи.
— Ну, знаешь, ты просишь невозможного, — произнёс маркграф Борс фон Ахен.
Его голос был спокоен, даже добр. Толстые губы, блестевшие от выпитого недавно вина, растянулись в деланой улыбке.
Лютор обернулся, на лице священника было написано презрение.
— Я никогда не прошу невозможного, — ответил Гусс, его низкий голос был спокоен. — Всё выполнимо с благословения Зигмара, и я прошу тебя исполнить Его волю, а значит, прошу лишь того, что можно претворить в жизнь.
Фон Ахен заморгал и удивленно посмотрел по сторонам.
— Замечательно. Образованный священник.
Он откинулся в своём кресле, и его жирный подбородок затрясся.
Маркграф был разодет в горностаевые меха и шелковые одежды, плотно облегающие его круглое брюхо. Возле него на низких деревянных креслах полукругом сидели восемь бюргеров. До полудня было ещё далеко, но у стен в приёмной уже горели факела.
Гусс стоял перед собравшимися: ноги расставлены широко, плечи расправлены, руки сжимают навершие боевого молота. Свет факелов отражался на его тяжёлой броне и бритой голове. Он был на целый фут выше самого крупного из присутствующих, а плечи по ширине не уступали фон Ахенову брюху.
Небеса за стенами здания хмурились от предстоящей грозы. На полу валялась старая солома, потрескавшийся камень на стенах был чем-то испачкан.
Не самое богатое местечко этот Кольсдорф.
Гусс то и дело оглядывал присутствующих, и когда его взгляд падал на лица сидевших перед ним бюргеров, те один за другим опускали глаза.
— Зверолюди выходят из Драквальда. — сказал он. — Их можно победить, но лишь силой можно вселить в них страх. Именно сейчас, пока стадная ярость не выгнала из леса ещё больше тварей. Если ждать их здесь, опьянённые кровью звери, перебьют вас всех.
Фон Ахен вяло махнул в сторону стены.
— Эти стены толщиной в пять футов, священник. У нас есть ратники, есть укрепления и припасы. Даже тысяча зверолюдов не войдут сюда.
Гусс нахмурился.
— Ваши люди в опасности. Деревни окрест уже горят.
Фон Ахен дёрнул бровью.
— Мои люди? — он слегка скривился от отвращения. — Если те, кто вопиет там о помощи так и не догадались искать убежища в городе, то вскоре они поплатятся за свою глупость.
Маркграф покачал головой.
— Я уже распорядился. Никто с тобой не пойдёт. За этими стенами ты будешь один.
Гусс терпеливо слушал, ни один мускул не дрогнул на его лице, только в чёрных глазах, ярко выделяющихся на фоне бледной кожи, тускло блеснул огонь.
— Я не буду один, — тихо сказал он.
Фон Ахен с сожалением посмотрел на него и, словно объясняя что-то деревенскому простаку, продолжил:
— Послушай, отсюда до опушки леса регулярных войск нет. Может зверьё и разорит наши деревни, но это лишь выветрит ярость из их голов, а нам будет стоить только крестьян. Останься и пережди бурю здесь.
И только тогда глаза Гусса засверкали яростным огнём. Лишь при упоминании крестьян он повысил голос.
— Они сыны и дочери Хельденхаммера.
Он по-прежнему говорил спокойно, но тон был уже другим.
— Его возлюбленные дети. Ради них Он проливал слёзы и кровь. Они — душа Империи, Его наследие и слава.
Речь эхом разнеслась по зале, и бюргеры нервно заёрзали в своих креслах. Пламя факелов, кажется, внезапно стало ярче.
— Если вы не будете сражать за них, я буду. Я покажу им, кем они могут стать. Зажгу их сердца священным огнём, наполню их члены силой предков. Я не вспомню об их скорбной жизни, но помяну их ярость.
Он вскинул молот и крепко сжал его обеими руками.
— Я дам зверю бой. Я отправлюсь на восток и изгоню скверну из царства людей.
Фон Ахен сглотнул, силясь не отвести взгляда от безжалостных глаз Гусса.
— И когда закончу, я вернусь, — с нескрываемым отвращением продолжил священник. — Молись, маркграф, чтобы я сделал это до того, как звери разорвут тебе глотку и пожрут твою бесполезную, жирную плоть.
* * *
Едкая вонь от костров наполнила сырой воздух. По перепаханной земле тяжёлыми струями полз чёрный, жирный дым. Ветер хлестал его, тащил клочьями по полю брани.
Не обращая внимания на кровь, заляпавшую лохмотья и пронизывающий ветер, фанатики стояли на коленях и молились. Трупы зверолюдов стащили в кучи и подожгли. Но прежде чем их облили маслом, каждое тело было ритуально обезображено — им вырывали глаза или отрезали когтистые пальцы. Мелочь, но для фанатиков она значила много. Лишь праведники — люди, защитники Драквальда — уходили на вечный покой такими, как были убиты.