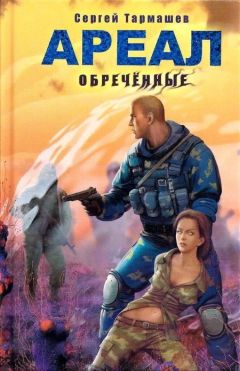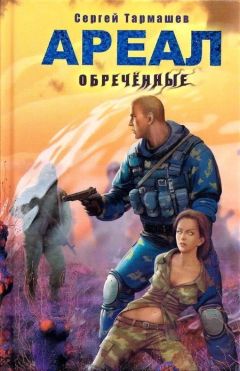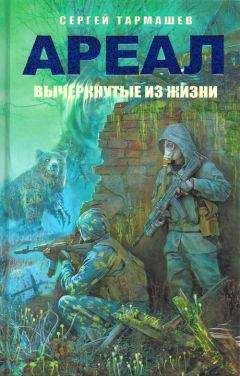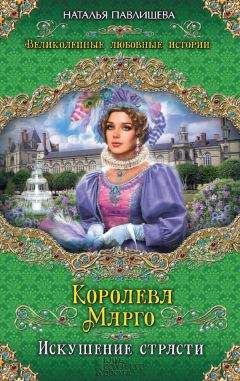А полная «групповуха» это вещь!
Ради «групповухи» можно потерпеть и сырость и холод.
Семён не знал, как всё это называется и происходит в других семьях, а тем более у тех, кто живёт в убежищах и вообще не покидает безопасных мест. В его же семье было заведено делиться накопленным «опытом». Ритуал, который позволял это делать, Семён придумал сам. Его дар позволял вытягивать что-то, что он называл «опытом» из доверившихся Семёну людей и совсем неохотно, но позволял отдавать вытянутое. Это что-то, как Семён уже успел познать на своём опыте и из рассказов других, получалось из заражённых, при их убийстве.
Большинство знакомых Семёна называло это «что-то» «опытом», «экспой», «лутом», тихонько подтекая крышей и применяя игровые термины везде, где только можно. Семён смотрел на это ровно, иногда и сам их применяя, если это было удобно.
Такие психи говорили, что гораздо больше «экспы» можно получать, поедая мозги заражённых, а то «авто-лут режет сбор ништяков на порядки», но Семёна выворачивало даже от одной мысли о таком, всё больше и больше убеждая в полной неадекватности помешанных на игровом восприятии окружающего мира. Но, должное Семён им отдавал, так как выживали такие помешанные не хуже, чем сам Семён.
И вот, острым языком Зари, ритуал был обозван «групповухой».
Он был сложным, требовал покоя, времени и чтобы чуть позже усилить, на какое-то время ослаблял дар всех, кто принимал в «групповухе» участие. В убежищах же было слишком много посторонних глаз и неизвестных способностей, чтобы рисковать накопленным семьёй опытом. Поэтому такие места, как эта квартира или комната над мусоросжигающим заводом и время в них проведённое, были особенно ценны.
Тем более что за неделю, проведённую спокойно в этой на удивление целой квартире полуразрушенного дома, они уже провели два ритуала и собирались рискнуть, протянуть ещё два дня и ещё разок погрузиться в «групповуху».
Семён всё это прекрасно понимал, но страшно не любил холодную сырость. По отдельности — без проблем. Но вот так вот — утром просыпаться в мокром холодном спальнике… Брр…
Особенность его личного «инсайта». Проклятья, которое сильно мешало жить. При этом, вот ведь хохма, сильно мешая, только инсайт и позволял продолжать жить.
Как говорили люди в Снегирях, укреплённой базе-убежище в Подмосковье, и Семён не видел причин не верить этому, инсайт случился у всех, кто был жив в момент «Вдоха», наделяя выживших одновременно и даром, и проклятьем.
Сам «Вдох», случившийся год назад, Семён не помнил. Проспал. Лёг спать шестнадцатого августа, а проснулся восемнадцатого. Кто же в момент «Вдоха» не спал — заснули принудительно, но при этом помнили всякое разное. Или врали, что помнили.
«Вдох» заставил жизнь на Земле замереть на сутки, и когда Земля снова проснулась, жизнь продолжилась.… Но это была уже совсем иная жизнь. Всё слишком изменилось.
Год уже прошёл с того дня, а зарево пожаров, поднимающееся до небес, дым, закрывающий горизонт и безумный вой, ввинчивающийся в уши, не отпускали его память.
И Боль. Чудовищная, парализующая, разрывающая на части сознание и разбивающая тело на осколки, разбирающая тебя по частям, отрывающая на живую мелкие кусочки, пережёвывающая их и, как ребёнок прилепляющий пластилиновой собачке пластилиновый хвост, вдавливающая в тебя эти пережёванные кусочки обратно.
Семён хорошо запомнил те минуты, показавшиеся вечностью.
Когда же боль перешла в разряд «терпимой» и Семён смог нормально соображать, забившись дома под кровать, слушая завывания соседей, дикие крики неизвестных тварей и обоняя гарь, кровь и смерть, он решил, что началась война и на столицу сбросили ядерную бомбу. Что это такое, когда на тебя сбрасывают ядерную бомбу, Семён не знал, и поначалу решил, что это оно. Она.
Война.
Войной пугали уже несколько месяцев, отношения между странами были предельно напряжёнными. Со всех сторон, с телеэкранов, в лентах новостей, на всех информационных каналах, постоянно лилась грязь на соседей, на все блоки и союзы, на президентов и королев. Везде и всегда трепали «Душу Айны», «Прохорова», «Сколково-Интертеймент». Клеймили злом, всех, кто хоть как-то был в этом замазан. Изымали шлемы ВР, прикрываясь заботой о здоровье нации и смешивая духовность и реализм в каком-то абсурдном гротеске. Арестовывали людей сотнями. Проводили показательные судебные процессы. Тогда, казалось, что полыхнёт в любой момент. Нервное напряжение было готово вот-вот вылиться во что-то непонятное. Люди были на грани. Всё замерло, как оголённый нерв. Дополнялось это постоянными провокациями на границах, криками дипломатов по поводу нарушения суверенности и вмешательств во внутреннюю политику. Телеэкраны разрывались и от рычания военных. И вот, полыхнуло.
«Вдохом» это было названо намного позже. Месяца через два-три, когда уже всем стало понятно, что это ни черта не война. Что это что-то иное. Постороннее. Чуждое. Не подчиняющееся политикам. Игнорирующее демократические ценности. Равнодушно уничтожающее всё, не различая цветов кожи, вероисповедания, сексуальных и политических пристрастий, полов, возрастов и даже видовой принадлежности.
Семён не слишком прислушивался к истерическим крикам и лозунгам сошедших с ума людей, с которыми он сталкивался в эти страшные дни. Слышал всё, но прислушивался лишь к тому, что могло помочь выжить в том аду, который творился вокруг.
А вокруг тогда творилось что-то страшное. Бывшее когда-то голубым, небо, проглядывая в разрывы от дымов и пожаров, вызывало у людей тревогу, пугая то всеми цветами радуги, то зелёными оттенками. Землю трясло как в припадке, землетрясения следовали за землетрясениями. Солнца несколько месяцев вообще не было видно, лишь наступление каждого нового дня, когда горизонт светлел без видимых причин, вселяло в людей надежду. Даже воздух стал тяжёлым и колючим, заставляя многих заново учиться дышать. Никакая электроника не работала. Электричества не было.
Везде и всюду лежали мёртвые. Воздух стонал от криков умирающих. Те, кому не повезло умереть сразу и проклятье чьего инсайта оказалось слишком сильным, чтобы продолжить жить, бились в конвульсиях от рвущей их на части боли, надрывали связки в попытках через крик облегчить страдания, выдавливали себе глаза, пытались содрать с себя кожу. И умирали. Тысячами. Сотнями тысяч.
Добавляя счёт к уже многим сотням миллионов погибшим во время «вдоха».
Никто не знал, что происходит. Только догадки и домыслы. Неизвестность пугала. Чудовищность происходящего сковывала разум. Было непонятно, весь этот ужас творится только рядом или так везде?
Не было никакой связи.
Попытки узнать, что происходит в соседних городах, ни к чему не приводили. Уходившие не возвращались. Местная власть растерянно замерла, не понимая, что делать в отрыве от власти центральной. Люди в форме умирали совершенно так же, как и люди без формы.
Резко выросла агрессия. Любой конфликт всегда перерастал в жестокую драку, заканчивающуюся убийством. Любой спор заканчивался трупами. За кривой взгляд человек мог получить пулю в затылок.
За кривой взгляд, за банку тушёнки, за упаковку макарон. За безопасное убежище, за доступ к чистой воде. За всё, что угодно.
Безумие коснулось и животных. Тех, кто пережили первые недели. Собаки нападали на своих хозяев, загрызая и сжирая их трупы. Поначалу исчезли все кошки, птицы и крысы, вернувшись лишь через полгода, но это уже были совершенно другие животные: агрессивные, ничего не боящиеся и чудовищно опасные, при этом ненормально сильные. Что творилось на фермах крупного рогатого скота, Семёну рассказывали, но он поначалу не верил. Позже, встретившись на улице с мутировавшим быком — поверил разом, и в эти истории и в бога.
Следующей вехой в разгорающемся безумии стал каннибализм. Семён тогда прятался на чердаке полуразрушенного здания уже несколько дней, его желудок был пуст, страшно хотелось жрать, но на улицах было слишком опасно и Семён терпел выжидая. Из чердачного окошка он и увидел, как один урод камнем забил своего приятеля до смерти, раздробил череп и сожрал мозг. После увиденной отвратительной сцены Семёна долго рвало жёлчью.