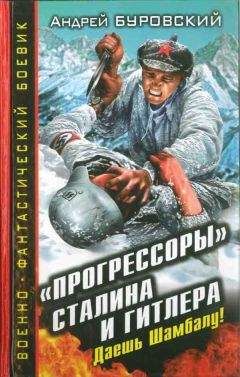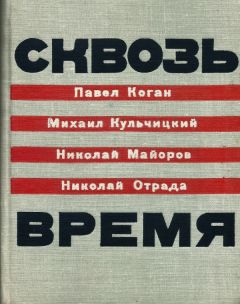Пока говорили, пока Петя «переваривал» комплимент, машина остановилась на берегу неизвестной Пете речушки, вдали от жилья и в полной тьме. «Ворона» загнали прямо в чашу прибрежного тальника. Потащили сучащего ногами, переставшего даже стонать пленника. Стоять он не мог, в свете мощного фонаря (Петя невольно вспомнил подворотню) взгляда почти не фиксировал. Васильев безнадежно махнул рукой, и тут же один из его людей потянул из ножен длинный, нехорошо отсвечивающий в луче фонарика нож.
Шофер, не спрашивая, с ведром направился к речке. Двое, тоже ни о чем не спрашивая, тащили труп. В общем, опять все были при деле, как в милиции.
— Не спеши…
Васильев покопался в машине, вышел с чем-то тускло блеснувшим в полусвете и с бутылкой в другой руке. Он что-то сказал сотруднику, и тот наклонился над лежащим. Петя думал, нож входит в человека бесшумно. А было мерзкое сырое чавканье, как при разделке мяса или туши. Лежащий не издал ни звука, он только еще сильнее вытянулся на земле.
— Вот так бы и он тебя… Если бы мы с тобой хуже умели стрелять, — так бросил через плечо Пете Васильев.
Он что-то делал, наклонившись над покойником, а потом подошел с бутылкой и стаканом в руках. Стакан на две трети заполнен темным.
— Ну что? Причащать тебя буду к строителям коммунизма. Как полагается — человеческой кровью. Пей до дна… А запьешь вот этим… водки хлебнешь.
Плыла нереальная, невероятная ночь. Знобило, трудно сказать, от чего больше: от этой нереальности, от промозглой речной сырости, от жути всего происходящего. Чувствуя, словно все происходит и не с ним, Петя принял теплый стакан.
— Не жди, опрокидывай разом.
Петя послушно пил вязкое, солоноватое, густое. В рот бил возбуждающий, тревожный запах, похожий на запах морской воды, только без привкуса йода. В животе разливалось тепло.
Васильев почти грубо отобрал пустой стакан, сунул бутылку. Петя влил в себя, проглотил немного водки… Тепло растекалось по членам, словно бы растворяло в себе первое тепло, кровяное. Петя пил еще, пока не перестали обжигать рот жгучие тревожные глотки.
Так же грубо, как раньше стакан, Васильев отобрал у него бутылку.
— Поздравляю. Теперь ты, получается, в братство вступил. В наше братство.
И бросил своим людям:
— Переодеть!
Мгновенно нашлась тужурка со знаками различия НКВД, какая-то старая рубашка. Петя избавился от заляпанного кровью пиджака, от рубашки со ржавыми пятнами, их унесли туда, где слышались сырые звуки ударов лопаты по земле. Туда же утащили второй труп.
— Ну что, товарищ Кац? — повернулся к нему опять закуривший Васильев. — Испытания ты проходишь славно. Этот, во дворе, которого ты застрелил, — первый в твоей жизни. Верно?
— Верно. Никогда не убивал.
— Уже убивал. Убил и его же крови выпил полный стакан. А вот руки у тебя вроде дрожат. Страшно?
— Страшно… И непонятно все.
— Что ж непонятного?
— Получается, мы своих уложили, из НКВД… И тех троих, в Первом отделе… И этих вот, во дворе…
— Они для нас еще опаснее немцев были, хоть и не понимали, что происходит. Пеликанов-то куда побежал? Он к Чаниани побежал. А тот решил, болван, что я тебя решил освободить, вот и послал арестовывать: тебя уж точно, а может быть, и нас обоих.
— Если свои, то можно объяснить…
— Им?! Объяснить?! У них приказ… А с Чаниани мы бы сколько провозились? Даже если бы он меня выслушал и честно справки стал бы наводить? Звонить по телефонам, которые я бы ему дал?
Даже если бы мы назавтра вышли — то и тогда плохо, потому что получается — я себя арестовать дал и свое задание раскрыл. И тебя, получается, раскрыл. Стоило тебя в покойники переводить, если тут же всему миру сообщать: «У меня в отряде теперь службу несет ясновидящий Кац!» А? Стоило?! А вот так, когда нас арестовать не смогли, — это прокол Чаниани. Это он нас не смог задержать.
Васильев говорил легко, весело, и Петя понимал — все для него просто и понятно, всему своя цена. Списанные сегодня человеческие жизни — обыденка, часть повседневной работы.
— А во дворе? Посреди Ленинграда — с пулеметом?!
— Подумай сам: ну кому надо моих людей отпускать? Они уедут и доложат — взяли шефа. Меня начальство не похвалит, конечно, но и Чаниани, получается, операцию провел очень хреновую: кого-то выпустил. Недоработка! А так получается что? Если я и уйду от тех троих, то меня из пулемета положат. На кого спишется? На германцев, конечно!
Еще прикинь: а если бы Чаниани сунул нас в камеру «до выяснения»? Если мои люди ушли, недолго я там просижу. А так — буду сидеть, пока Чаниани решит мне поверить и проверять начнет… Если даже и начнет — это срыв сроков… Наших сроков, товарищ Кац. У нас свое задание, и опять же пришлось бы задание засветить, что само по себе недопустимо, и к тому же все сроки исполнения задания нарушить…
И еще выходит так, товарищ Кац, что ты мне жизнь спас сегодня… Это ты понимаешь?
— Сперва вы мне, товарищ Васильев… — заулыбался Петя.
— Вытри рот, еще кровью запачкан. Сперва я тебя вытащил, верно. А потом ты своим Голосом сообразил, где засада. Иначе вполне я мог на эту засаду и нарваться. Соображаешь?
Петя кивнул. Он навсегда запомнил этот поздний вечер, почти ночь. Чавканье лопат, сияние звезд наверху, отражение звезд на речной ряби. Пробивает дрожь: отходит чувство опасности, похмелье, холодная сырость, туман. И кружится, кружится голова. От водки, от напряжения, от человеческой крови.
Облеченный высшим доверием
Для Пети 11 часов вечера были уже очень поздним временем. Васильев же оставался весел и бодр, и на все у него были ответы. И ответы были, и билеты, и документы для Пети.
Кому-то предстояло вообще всю ночь гнать машину в Москву.
— А мы, товарищ Кац, поедем поездом, нам надо выспаться немного.
Петя боялся, что выспаться и не получится после таких приключений, и ошибся: провалился мгновенно. Никаких сновидений! Много позже приходили по ночам и провокация Пеликанова, и блеск шила в руке стертого лицом человека, и громоподобный выстрел из «маузера», падающий вдоль университетской стены человек, чавканье о землю лопат… Но это потом, именно в эту ночь Петя спал сном младенца.
Мелькнула Москва… Именно что мелькнула, поманила собой и пропала, храня все то же ощущение нереальности. Тем более самой Москвы они не видели. Видели вокзал, встречающую их машину, крепких дядек из НКВД. Прямо в машине товарищ Васильев познакомил с Иваном и Каганом. Ни под каким видом не советовал Пете Васильев не то что интересоваться — даже думать, кто такие остальные члены экспедиции. Каган и Иван, да и все.