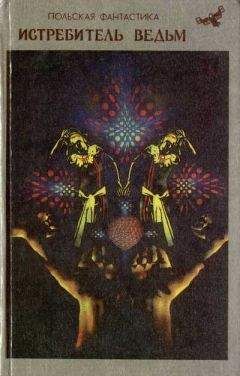— Отчего бы нам, — говорил еще Ф., сотрясаемый дорогой, — не прибить к миру беспамятную доску: «Здесь пребывал Ш. с его заскорузлой печалью».
Восемьсот лет беспредельного дистиллированного молчания хотел было позволить себе Ш., но не выдержал и минуты.
— Я, разумеется, в полном восторге, — говорил он угрюмо, — от твоего дымящегося идиотизма.
— Минздрав предупреждает, — со сверхъестественной своей артикуляцией Ф. говорил, — дыхание опасно для вашего здоровья.
Глухо мотором урча и прихрамывая на колдобинах, их обогнал фургон психологов со смурным Ивановым за рулем и горделивым Гальпериным. Ф. смотрел на фургон, собираясь высморкаться. Возможно, он что-то вспомнил, или ему казалось, что вспомнил, или только хотел вспомнить что-то давным-давно прошедшее, а возможно, только пытался вспомнить то, чего не было, но всего лишь могло быть и даже то, что наверняка будет в дальнейшем. И был одиннадцатый час одного полузатерянного после Рождества Христова, ничтожного и незабываемого утра.
Иванов стучал ключом в замызганное стекло, покуда занавеска не отдернулась. Он кивнул кому-то в полумраке помещения, и после ждали минут пять, и вот во двор по ступеням крылечным спустилась толстая старуха Никитишна, и, переваливаясь по-утиному, на артритных ногах своих пошагала в сторону фургона психологов, нимало внимания не обращая на Иванова с Гальпериным.
— Могла бы и Лизу позвать, — говорил нагловатый Гальперин.
— Невелики птицы, чтобы Лизу от отдыха отрывать, — только и буркнула Никитишна.
Иванов перед старухою дверь двустворчатую фургона раскрыл. Старуха сощурилась и что-то одними губами пожевала, разглядывая два мертвых тела.
— Эх, обормоты! Взяли — Казимира загубили, — наконец проворчала она, стаскивая на землю грязную и шумную пленку.
— Такова жизнь, — возразил Иванов. — Он сам напросился.
— Ишь ты, прыткий какой, — говорила старуха. — Вечно ты: за словом в жопу не полезешь.
— Правду не скроешь, — говорил Иванов.
Ему вдруг показалось, что кто-то в спину ему смотрит своим бестактным взглядом, он подождал немного и обернулся, и увидел лишь старую бесполезную ворону на дереве с ее сероватым беспокойным зрачком, будто бы что-то выжидавшую и высматривавшую. Иванов погрозил ей кулаком, и та улетела неторопливо и вполне равнодушно. Голые кусты сирени поблизости топорщились из почвы; потоптанные, засохшие цветники однообразно тянулись до самой ограды.
— Да, — сказал Гальперин, — сейчас вот времена пошли: брат на брата идет. Христос там, Аллах и все такое прочее… А людишки друг друга бьют из-за различий в трактовках.
— В каких таких трактовках? — подбоченилась старуха.
— Неважно, — возразил Гальперин. — Ты человек простой, можешь и не понять.
— Мы вот давно заметили, — подтвердил еще Иванов с лицом, содрогнувшимся в тике, — что ты — враг просвещения.
Никитишна засопела.
— Товар — не первый сорт, — заключила она.
— Как так не первый сорт? — заволновался Гальперин.
— Что вы мне тут всякой тухлятины понавезли? — говорила старуха.
— Какой еще тухлятины? Какой тухлятины? Вот он, посмотри, молодой — восемнадцать лет парню. Уже паспорт имеет. А ты говоришь — тухлятина.
— Восемнадцать лет. От него одно мокрое место осталось.
— Мокрое место — не научный термин, — возразил Гальперин.
— А Казимир!.. — поддержал того товарищ. — Ты на Казимира взгляни. На нем вообще ни кровиночки лишней.
— Ни кровиночки, — передразнила старуха. — Только кишки в месиво побиты.
— Не умничай! — осадил ее Иванов. — А то, видишь, моду взяла.
— Да, — сказал Гальперин. — Казимиру, может, и пиздец, зато дело его живо.
— Это что еще за дело такое?
— Какое надо!
— Разговорился тут, — возвысила голос неуемная старуха. — Я у вас товар принимать не стану.
— Я на тебя Лизе докладную напишу, — прикрикнул Иванов.
— Вот еще, докладчик какой выискался, — поджала губы старуха. Она пошагала к крыльцу, не оборачиваясь.
— Ну и старуха! — удивился Иванов.
— Это не старуха, — возразил Гальперин. — Это язва русской души.
Никитишна, услышав, только лишь плечами повела с гранитной своей непримиримостью.
— Ну так что, нам это все обратно везти? — вдогонку ее окликал Иванов.
— Вези куда хочешь, — огрызнулась женщина.
— Сейчас и вправду увезем. Давай, Гальперин.
— Да, — согласился Гальперин. — Времена нынче рыночные. На всякий товар покупатель найдется.
— Ладно уж, — смягчилась наконец Никитишна, всходя на крыльцо. Паузу она умела держать, что твой Станиславский. — Тащите в приемный покой.
Гальперин вздохнул и в фургон полез, собираясь Иванову подавать трупы. Тот внезапно сбросил с безыскусного лица своего напряжение, и, руки о штаны обтерши, взялся за конец пленки возле ног Казимира. После старуха скрылась в помещении, но дверь оставалась открытой.
Хотя Ш. был по обыкновению полон проектов его триумфального самостояния, ныне нужно было двигаться вперед по делам обыденности и насущного продукта. И еще, разумеется, следовало встречать и провожать любое проходящее мгновение во всеоружии своей ничтожности. Хотя в случае досуга Ш. также был готов любопытствовать всякими именами птиц и законами ветра.
Он остановил машину посреди улицы, по одну сторону которой стояли дома о трех и четырех этажах с побитыми и посеченными стенами, с окнами, заклеенными газетами и завешенными простынями, а по другую — тянулся пустырь, огражденный покосившимся забором из металлической сетки.
— Давай, сторожи имущество брата своего, — говорил он Ф., открывая дверь машины и вставая ногами своими уверенными в выбоину асфальта. — Сторожи добро брата своего, — говорил он еще раз с намеренною пряничной куртуазностью.
— Брат мой — враг мой, имущество его — бедствие мое, — возражал тот пересохшими губами и смыслом своим пересохшим.
— Я по-прежнему носитель света твоих трагических инструкций, — успокоил Ш. приятеля.
Более он ничего говорить не стал, минуту постоял возле машины, будто собираясь с дыханием своим, и вот уж всеми резонами души своей укрепленный шагает в сторону пустыря. Нашел дыру в сетке и пролез через нее, и Ф. смотрел тому в спину со всею изобретательностью равнодушия своего. Ф. потом тоже из машины вылез, дорогу перешел и под аркою ближайшего дома укрылся, чтобы лучше ему было за окрестностями наблюдать.
Сразу за кустами начинался пустырь, и Ш. вышел на пустырь не без трепета бессердечия своего. Все-таки нужно жить, не стесняя себя в созерцании и в бездействиях, сказал себе Ш. Место было плохим, ибо было гибельным и открытым, пустырь мог простреливаться отовсюду, Ш. осмотрелся неприметно по сторонам, почти головы не поворачивая, хотел идти с достоинством, потом все же не выдержал и, весь скособочившись и пригнувшись, побежал, каждой клеточкой кожи ожидая для себя неожиданной, нестерпимой боли. Один раз действительно где-то стрельнули в стороне, возможно даже, и не по нему, а так просто, но Ш. лишь еще ниже пригнулся, не прерывая бега.