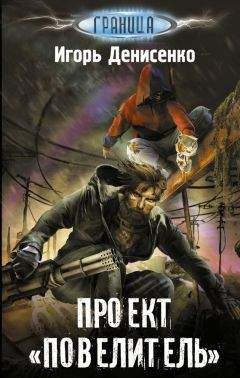– Знаешь, – ответил Косой, – я вдруг подумал: а нах всё это? Может, плюнуть на Джокера? На фиг бороться с ним за эти развалины? Бросить эту помойку и уйти в лес. Хаймович сегодня расписывал, сколько там живности, и тихо, спокойно. Ни от кого подляны ждать не надо.
– И не говори, а я на днях карту одну смотрел, там местечко одно под номером 7844 обозначено, в лесу, кстати, находится.
– Что за карта? – оживился Федя.
– Да две карты были на вертолете, на одной город, на другой лес. Я думаю, они оттуда прилетели, – кивнул я на махину на шпиле.
– Там, поди, много чего интересного найдется.
– Наверняка.
И мы замолчали. Думая каждый о своем, девичьем. Косой думал о куче оружия в лесу, громоздящейся выше деревьев. Все-таки у него комплекс какой-то. Жили же до этого с одними ножами, и ничего. Мне хватает и этого. Пистолет, правда, иметь неплохо, но таскать эту дуру, которая оттягивает шею или бьется по спине, под названием автомат, мне и даром не надо. Тело привыкло к свободе.
А я думал о насекомых. Улетать они не спешили и вообще никуда не торопились. Казалось, их стало еще больше. Вся крыша была ими облеплена. Часть летала над нами, часть ползала по крыше. Темнело, но шум над головой не смолкал. Мы присели на пол. Косой закемарил. А я сидел, вслушиваясь в гул и общий эмоциональный фон.
На грани сна и яви я вдруг ощутил их настрой – любопытство. Они видели нас и хотели понять, что мы такое.
«Кто ты? – услышал я вопрос у себя в голове.
– Человек. А ты?
– Мы жизнь… – был ответ.
Возможно, это не совсем точно: слишком многое было вложено в этот образ смутных взаимоотношений, работы, рождения новых поколений и гибели старых. Но в человеческом языке не было понятия, которое объединило бы все это, поэтому я определил его одним емким словом – жизнь.
– Отпусти нас, – попросил я.
– Разве тебя кто-то держит?
– Ты. Ты набросишься на нас, если мы выйдем.
– Нет. Моим… – тут опять непонятное определение, – просто нужна кладка.
Я внутренне содрогнулся, представляя себя нашпигованным личинками.
– А зачем? – задал я глупый вопрос.
– Жизнь.
Казалось, мой собеседник удивился в свою очередь.
– Найди себе других для кладки.
– Мы в поиске…
Я призадумался. Просить глупо, им, конечно, незачем отказываться от ближайшей и удобной цели. На жалость давить не имеет смысла. Они не знают, что такое жалость.
– Мы тоже жизнь, – подумав, сформулировал я.
– ?..
– Не такая как ты, но жизнь.
– Мы поняли, что ты не такой как… – непонятное определение.
Я закивал головой в догадке. Есть нечто и для него святое и неприкосновенное.
– Да, я пахан… – (О, господи! Что я несу?)
– Ты матка? – удивился рой.
– Да, да!
Он задумался в замешательстве, гудя о чем-то своем.
– Мы не тронем тебя. Иди.
– А моего друга?
– Он не нужен тебе, нам сгодится…
– Он мой трутень.
Сроду не думал, что те ненужные знания, которые на досуге запихивал в меня Хаймович, когда-нибудь пригодятся. Минутное молчание.
– Идите. Мы запомним вас.
Может, он имел в виду что-то другое, но я понял именно так».
В полусне я поднялся и, сам не веря своей глупости, шагнул к дверям. Двери раскрылись, обдав меня свежим, прохладным воздухом. И я шагнул за порог. Косой очнулся и таращился на меня во все глаза, ничего спросонья не понимая. Я шагнул вперед, разведя руки в стороны. Пара разведчиков тут же приземлилась на мои плечи. Еще парочка оседлала спину и грудь. Они ползали по мне, нюхая, как собаки, тыкая хоботками в куртку и потирая лапки. Федя в тихом ужасе застыл сзади. Он приготовился стрелять, но не знал, как это сделать, чтоб не убить меня.
– Тихо, Федор, тихо и без резких движений. Не вздумай стрелять. Выходи следом и дай им себя обнюхать, как это сделал я. Они ничего не сделают. Они так запоминают. Я тебе позже всё объясню.
Косой зашевелился, медленно поднимаясь и матюгаясь про себя. Про рюкзак я забыл. Но не возвращаться же за такой мелочью – назвался королевой, изволь быть ею. Не царское это дело – рюкзаки таскать. Меж тем Федя вытащил рюкзаки и сморщился от севших на него исследователей. Только я, наверное, знал, чего ему стоило сохранять спокойствие, а не сбросить, не отмахнуться от них руками. Он сдюжил, и я облегченно выдохнул. Нас обнюхали, запомнили, и мы могли идти, не боясь нарваться на новую особь, которая еще не в курсе, что мы свои. Информация о запахе и внешнем виде передавалась у них мысленно на любое расстояние. А как могло быть иначе? Они ведь один организм. Правая рука всегда знает, что делает левая. Мы добрели до чердака. Там я наконец забрал свой рюкзак у Косого.
* * *
– Значит, говоришь, я трутень?! – возмутился Косой. Я ржал в ответ и не мог остановиться, меня била истерика.
– Матка моя! – похотливо оскалился Федя и полез на меня, ощетинившись автоматами.
– Иди в жопу! – отмахивался я смеясь.
– Как скажешь, дорогая, как скажешь, – ухмылялся Косой, имитируя расстегивание ширинки. Тут он поскользнулся, и тяжелый рюкзак увлек его назад. Рухнул всем телом. Припечатался хорошо, судя по выражению лица. Я уже не смеялся, а просто погибал в конвульсиях.
– Что ты ржешь, помоги встать!
Я протянул руку и помог. Отсюда до хаты Косого оставалось две собачьих перебежки, а мы шли уже добрых полчаса. С каждым шагом рюкзаки не просто становились тяжелее – они словно вбивали нас в землю. А тут еще дождик прошел, и ноги так и норовили расползтись по грязи. Кое-где еще оставались участки чистого асфальта, по ним и старались идти. Но их было не много. Вот уже показалась панельная пятиэтажка с обвалившимися балконами.
Лестничный пролет внутри дома рухнул, и к Косому на второй этаж забирались по съемной лестнице, которую втягивали за собой. Что было не очень удобно, зато гарантировало какую-никакую безопасность. От человека, конечно, не спасет, но от зверья запросто.
Ночь накрывала город. Федя внимательно вглядывался в окна. Нигде ни единого огонька. Мы заспешили. Оглушительно забилось сердце. Пусто! Никого живого я не ощущал, слабое пятно теплело где-то справа, то появляясь, то пропадая. Мы бежали молча, не чуя под собой ног.
Перед домом было всё истоптано. В жирной грязи четко отпечатались тяжелые ботинки с грубым протектором. Заскочив в подъезд, Федя чуть не споткнулся о брошенную лестницу. Поставив лестницу, забрались наверх. Я зажег дежурный факел и взял с собой. В бликах пламени на Косого было страшно смотреть. Желваки играли под кожей, щеки впали. Грязь. Черная грязь на полу и стенах. Лужи загустевшей крови. Прямо перед нами в луже лежал, раскинув руки, Миша Лопух, прозванный так за большие раскидистые уши. Опознать его только по ушам и можно было. Вместо лица – кровавое месиво, из ружья в упор выстрелили. Словно невесомые призраки, затаив дыхание, мы стали обходить этаж за этажом. Смерть. Она царила всюду. Нож, пистолет, ружье были ее инструментом. На четвертом этаже я склонился над телом Андрюхи Ворона. Он был теплый и еще дышал, зажимая пальцами распоротый живот.