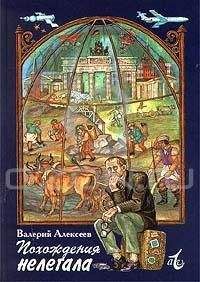И через час я оказался в ее маленькой беленькой квартирке, где вся мебель была из светлых сосновых досок, будто бы на турбазе.
Последний раз я спал по-человечески сто восемьдесят восемь ночей назад, в Ларискином будуаре. Чуть не заплакал, когда, ложась у Керстин спать, вдохнул давно забытый запах свежего постельного белья.
88
Надо ли говорить, что вечера мы с подружкой проводили в долгих поучительных беседах?
Керстин приносила с собой ксерокопии арестантских писем и прилежно переводила их на немецкий, нередко засиживаясь за компьютером до середины ночи.
Я, как мог, помогал ей, разбирая каракули автоугонщиков и контрабандистов.
"А за Лялькой, мама, строго следи, чтоб она, мокрохвостка, с кем попало не нюхалась, принесет в подоле выблядка — и ее удавлю, и тебе не прощу".
Керстин была влюблена в свой языковой и человеческий материал. В первый же день нашей дружбы она призналась мне:
— Не могу слушать ваши блатные песни: сразу, блин, начинаю плакать.
И, как бы в подтверждение этих слов, тут же заплакала легкими светлыми слезами.
Ее пытливые вопросы порою ставили меня в тупик.
— Анатолий, что такое полуперденчик? Я поняла так, что это рабочий фартук официантки. Но разве его носят сзади?
Моей неприязни к использованию в русской бранной речи слова "мать" Керстин не разделяла.
— Ну, и что тут особенного? — защищала она мой великий и могучий язык. — В Италии страшное ругательство — "порка Мадонна". А ты знаешь, что для итальянцев Мадонна? Святая святых. У них у самих глаза на жопу лезут от этих слов.
Училась Керстин круглосуточно.
— А что это ты сейчас со мной делаешь? — спрашивала среди ночи в самый неподходящий момент. — А как это будет по-русски?
В общем, славная мне попалась подружка.
89
Возможно, вы спросите: а как же Ниночка? Как же моя вечная любовь и великая боль?
Хороший вопрос.
В одном советском фильме есть такой эпизод: на вокзальной платформе стоит офицер в длинной шинели и ест эскимо. Настроение у него — хуже некуда: час назад ему отказала любимая девушка. Но за этот час она передумала и примчалась на вокзал. Издали увидала своего офицера с мороженым в руках, развернулась — и гордо уплыла прочь.
Дескать, как он мог в такой момент?
Между прочим, мороженое в те времена — это был дешевый и быстрый перекус. Офицер просто не хотел помирать.
Вот это красотке и не понравилось.
Ей было бы приятнее увидеть его болтающимся в веревочной петле.
Мужику, считай, повезло, что на вокзале торговали мороженым. Иначе петли ему было бы не миновать.
Не уподобляйтесь, ради Бога, глупой героине глупого фильма. И не будем больше об этом.
До знакомства со мной Керстин давно уже не была девственницей. Впрочем, больше года она жила одна: предыдущий друг ее оказался "швуль", в смысле голубой, и она мирилась с этим, пока тот не стал приводить в дом любовников.
О замужестве Керстин даже не помышляла: зачем?
Дом содержала в стерильной чистоте, кухня у нее просто блестела — по той простой причине, что хозяйка не желала (да и не умела) готовить.
В маленьком холодильничке у нее содержались лишь йогурты, тортики и прохладительные напитки.
Впрочем, это было даже к лучшему.
Как-то раз в воскресенье где-то в Баварии, должно быть, сдох медведь: Керстин приготовила салат типа "оливье", но заправленный вареными макаронами. И, сияя, поставила на стол передо мною: зельбстгемахт.
В смысле: не покупное, сама сделала.
Своими лилейными ручками.
Я как увидел эти холодные толстые белые макаронины под майонезом — чуть не сблюнул.
Но, чтобы не обижать подругу, ел и нахваливал.
Кстати, ничего, кроме салата, и не было: собиралась еще супчик сварить, да передумала.
Вот такой домострой.
Мать моей подружки проживала в доме престарелых. Раз в две недели, чередуясь с братом, Керстин ее навещала.
— Маркус свою очередь знает. Четные недели мои, нечетные — его. На праздники приезжаем вместе.
Когда я начинал допытываться, не болит ли у нее душа за родную матушку, Керстин меня совершенно не понимала.
— Да пошел ты, у нее там клёво! Не шарага какая-нибудь, очень дорогой дом престарелых. Папа, когда жив был, прилично загребал, бабки на счету есть, всё оплачивается регулярно. У мамы там полно корешей, сервис, блин, офигенный.
Впрочем, надо отдать ей должное, свою эмоциональную недостаточность Керстин смутно сознавала.
— Вот вы, русские, сердцем живете, — говорит как-то раз, подбривая перед зеркалом подмышки, — а мы, немцы, разумом. Рассказал бы ты мне о жизни твоего сердца.
С ума сойти можно. Мать мою так.
90
Про свои приключения я ей ничего не рассказывал. Выстроил более или менее гладкую версию: зарплату не платят, в награду за долготерпение послали сюда на годичную стажировку, но это чистая формальность, поскольку ни к какому конкретному вузу я не прикреплен.
Этого ей было более чем достаточно.
О дисминуизации с нею — ни слова.
Тем более о контактной. Дудки.
Как в старой песне поется: "Не доверяли мы ему своих секретов важных..“.
Правда, месяца через три Керстин стала тяготиться неопределенностью моего положения.
Не в смысле оформления наших отношений (эту тему мы с ней вообще не обсуждали), а в смысле анмельдунга.
— Анатолий, ты прописан в Берлине, а живешь здесь. В Германии так делать нельзя. Я понимаю, что ты вольная птица, но всё равно надо сходить в ратхауз прописаться. Это нарушение закона об иностранцах. Я никому не говорю, что ты живешь у меня, ни маме, ни брату. Это наше личное дело. Но власти должны знать, где ты проживаешь. А вдруг тебя надо будет вызвать в какую-нибудь инстанцию?
— Да никаким инстанциям до меня дела нет.
— Это сейчас. А ты прикинь: переходишь улицу на красный свет — и тебя прижопили. Куда посылать счет?
Чтобы отбояриться, я выдал себя за принципиального диссидента, противника паспортного режима как такового, и Керстин отступилась.
Диссидентство — это графа, признанная на государственном уровне. Почти официальный статус пребывания.
Представляю себе, как переполошилась бы рыжая матерщинница, узнав, что у меня не только визы, но и паспорта настоящего нет.
Стала бы подбивать меня на явку с повинной: "Знаешь, какое у Германии пенитенциарное право? Самое гуманное в мире. Пальчики оближешь".
Первое время я опасался, что она попросит меня предъявить документы. Но потом понял, что поступить так ей не позволяет воспитание.
Не деликатность, нет, только глубокое убеждение, что на это у нее нет права: она же не официальная инстанция.