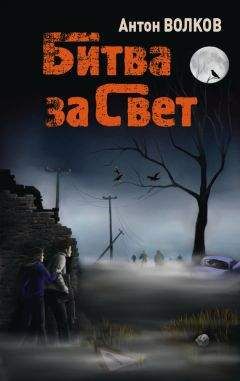Особенно веселым у них считалось раздеть какого-нибудь бедолагу, да, именно бедолагу, ведь так поступать с матерыми уголовниками им было страшно, они очень боялись мести от них и их товарищей, поэтому пытками подвергались простые люди, которые по мнению вертухаев вели себя «неправильно». Так вот, особенно веселым для них было распять какого-нибудь заключенного голышом на столе, стянув руки и ноги ремнями, а на задницу ему посыпать соли. Сверху на нее клали замороженную алюминиевую кружку с замороженной внутри водой, и принимались ждать.
В результате таких нехитрых манипуляций, под воздействием соли температура плавления льда заметно понижалась, и он начинал гораздо интенсивней поглощать тепло. Итогом становилось то, что седалище жертвы превращалось в одну сплошную холодовую травму, доставляя человеку множество мучений, когда невозможно толком ни ходить, ни сидеть. Относительно комфортно было только лежать на животе, да только кто же тебе позволит так проводить здесь время?
Называли здесь такое развлечение по-разному, кто-то называл эту процедуру Морозко или зимним поцелуем, а другие обезьяньей жопой. Сама по себе она не была болезненна, потому что холод купировал болевые сигналы, и истязаемый просто чувствовал очень неприятный холод, зато в плане последствий эта экзекуция была просто невероятна — вплоть до некроза мягких тканей.
В общем, среди персонала СИЗО, как оказалось, процент ублюдков и садистов ничуть не меньше, чем среди заключенных. И многих из них я теперь знал по именам и по лицам…
Но супругу этого Анатолия все равно было жалко. Она-то о своем муже думает только хорошее, и очень будет горевать с его уходом. Но кто теперь виноват, что она выбрала себе такого человека в супруги?
Мои размышления прервало появление дежурного. Он заглянул в окошко «кормушки» и скомкано осведомился о наличии ходатайств, жалоб и заявлений, а когда получил синхронный отрицательный ответ, быстро исчез.
Потом нам через все то же окошко сунули поднос с хлебом и сахаром. Выходило где-то по полбулки и по два кубика рафинада на каждого. На сутки совсем неплохо, да только хлеб был какой-то серый и крошащийся, словно его делали не из муки, а из пыли. Но голод не тетка, и когда до нас дошла очередь завтрака, состоявшего из сухой гречки, в которой не было даже намека на что-нибудь мясное, я умял сразу четыре порции, заев это целой итюхой. Да, странное название, я тоже удивился, но этим словом многие заключенные почему-то называли половину хлебной булки.
Раньше весь сахар себе забирала здешняя блатная пятерка, да только теперь он всем им был без надобности, так что я стал единственным обладателем белой смерти в этой камере.
Не так уж и дурно, если подумать. Аппетит у меня стал зверский, ведь восстанавливающийся организм бескомпромиссно требовал пищи, да еще и в совсем немалых количествах. Одной Силой сыт не будешь, как оказалось, и даже такое постное меню было радостно воспринято моим желудком.
По уже отработанной покойным охранником схеме, мои марионетки свалили остатки еды в чашу Генуя, весьма отвратительного, хочу сказать, вида, которая располагалась в самом дальнем углу камеры. И поскольку смыв в ней происходил посредством ковша, что был привязан цепью к рукомойнику, ушло немало времени, чтобы всю несъеденную жрачку протолкнуть в очко.
Всем этим я занимался потому что знал, что какие-то метаболические процессы в поднятых покойниках протекают, но вряд ли они будут в состоянии переваривать пищу. А что станет с мертвецом, если он послушно станет питаться три раза в день? Гречка из горла полезет? Или из какого другого отверстия? Проверять мне этого не очень-то хотелось, тем более в это время, так что я оставил это исследование на потом.
После завтрака прошла короткая поверка, во время которой тюремщик пытливо всматривался в мое лицо, пытаясь отыскать, по-видимому, следы от воспитательного процесса, но, ясное дело, ничего похожего не находил, чем оказался до невозможности огорчен.
Затем нас повели на прогулку! Звучит здорово, правда? Но здорово это только до того момента, пока не узнаешь, что «прогулка» проходит здесь в каменном загоне с четырехметровыми стенами, где потолок заменяет широкая арматурная решетка, так что удовольствие от такого моциона было получить очень сложно.
За стенами послышались перекрикивания заключенных из других камер, кто гулял в таких же выгульных дворах.
— Аллё, арестанты! Часик в радость, чифир в сладость! Перекиньте папирос, не в падлу, наша хата на нуле!
— Держите, нищие!
— О-о-о, братухи, от души благодарствуем! А «льда» не найдется пару кусков?
— Не, тут уже сами на голяках сидим, не обессудь.
— Э, курильщики!
— Чё?
— Это не к вам подсадили хмыря, который белгородскую шайку в одно рыло уработал?
— Не, к нам не сажали! Цирики вроде между собой тёрли, что его к Бате определили.
— Ага, понятно. Батя! Батя, ты тут?
— Тут! — Отозвался мой мертвец.
— Ну че там с этим кексом у тебя?
— Все ровно.
— В смысле?
— На коромысле! Конкретней спрашивай, что знать хотел.
Такая перекличка, как я узнал, была здесь своеобразным ритуалом. Между собой в СИЗО заключенные из разных камер никак не пересекались, и общаться могли только вот на таких прогулках. Так что молчать было бы неправильно, поскольку тюремщики, которые особо не слушали этот трёп, но все же стояли неподалеку, могли заподозрить что-нибудь неладное.
— Ну как что… ты с этим бакланом обошелся?
— Это белгородские ваши бакланы, быканули не по делу, вот и огребли по рогам.
— Ты серьезно?!
— Серьезней не бывает.
— Так чё, он и не баклан получается, а порядочный тип?
— Так и есть.
Эх, никто меня не хвалит, так приходиться самому. Я обратил внимание, что об этот разговор активно греют уши тройка тюремщиков, что выводили нашу камеру на прогулку. Похоже, они были в курсе моего так называемого наказания, и сейчас открыто дивились, слыша подобные слова от Бати.
И тут вдруг один из них отделился от группы вертухаев, и двинулся целенаправленно ко мне.
— Руки подставляй.
— Это зачем?
Я не спешил выполнять его поручение, внутренне приготовившись уронить его на землю и быстро умертвить. Эта морда любителя пыток мне была теперь прекрасно знакома. И если он решил выслужиться, раз уж надо мной в камере никакого насилия не случилось, то марионетки сейчас прикроют нас от взглядов, и никто ничего даже не сможет рассмотреть, что тут произошло. А у меня станет на одну марионетку больше…
— Да не напрягайся, посетитель к тебе.
— Опять? — Я удивился, отпуская уже готовую сорваться в смертоносном уколе Силу, и все-таки вытянул вперед руки.
— Не опять, а снова! Давай только скорее.
И я пошел, ломая голову, кто пришел ко мне на этот раз. Меня провели все по тем же коридорам и завели в комнату краткосрочных свиданий со стеклянными перегородками, и когда я все-таки увидел визитера, то едва сумел удержать взревевшую внутри энергию.
Сухов, скотина, сам пришел. Как удачно…
Я сел напротив него, на автомате взял переговорную трубку, и только тогда осознал, что Сила не проходит сквозь стекло, и я не могу его убить через перегородку. Дерьмо!!!
— Здравствуй, Сергей, ну как поживаешь?
Эмоции генерала до меня тоже едва ли доносились, но вид его был крайне серьёзным.
— Что тебе нужно, Сухов?
Я знал, что сейчас начнется торг. На одной чаше весов будет моя свобода, а на другой рабство. И, по сути, я должен был выбирать из двух стульев, как в одной известной тюремной загадке…
— Ты знаешь, что. Мы с тобой уже обсуждали это на той глупой вечеринке, помнишь? Я тебе открыто предложил помочь нам по старой дружбе.
— Вообще-то, — не сдержал я в голосе яда, — ты мне никогда другом и не был. А еще, если я не чокнулся окончательно, ты тогда заявил, что оказался там чисто случайно.
— Секирин, не время для шуток! — Я с удивлением про себя отметил, что полицейский-то реально был на взводе. — Ты что, совсем не понимаешь, что тебя не оставят в покое? Тебя мало постреляли, ты еще хочешь подобных покушений?!
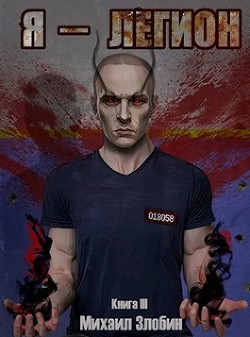
![Антон Волков - Битва за Свет [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/227867/227867.jpg)