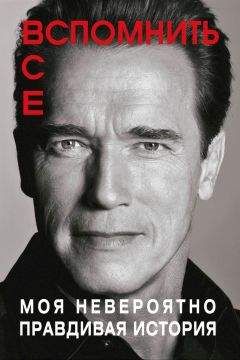– Послушайте, вы… сверхчеловек! – Лабунько медленно встал, меряя Романова гневным взглядом. – Эти дети не виноваты…
– Виноваты их родители – алкаши и наркоманы, – перебил врача Романов. – Виновато покойное государство, правой рукой имитировавшее борьбу с этим, а левой – поощрявшее эти мерзости. Виновато человечество в целом, расплодившее наследственные уродства во имя выдуманного с пережора «природного права на жизнь», которое очень ловко скрещивалось с уничтожением экологии ради барышей. Ваши больные – да! – они не виноваты, и я их ни в чем не обвиняю. Они мне просто неинтересны. А вот вы и ваш персонал – интересны как врачи. Хотя бы как педиатры. Хороших врачей у нас нехватка, тоже спасибо покойному миру.
– Вы предлагаете нам оставить наших пациентов? – Казалось, Лабунько не верит своим ушам. Он даже глупо приоткрыл рот.
– Не предлагаю – приказываю, – жестко отчеканил Романов. – И не пациентов – пациенты есть те, кто еще может вылечиться или хотя бы погибает, пострадав на службе при выполнении своего долга.
Лабунько покраснел. Тяжело задышал, раздувая ноздри. Романов с интересом следил за ним, пока врач не выпалил:
– Вы просто фашист!!
Началось! – тихо вздохнул Романов. Начались заклинания. Начались громы и молнии. Вон даже ростом стал повыше и принял соответствующую позу для пламенного обвинения. И ведь не рисуется он ничуть. Не выпендривается. У человека так устроен мозг…
На миг Романов себе представил, как летом 1942 года в штабе Чуйкова кто-нибудь в споре о положении на фронте бросает собеседнику обвинительным тоном: «Мерзкий перс, осквернитель святынь!» Да еще на древнегреческом бы ляпнул это… Наверное, было бы много хохоту. А буде обвинитель стал упорствовать – позвали бы военврача, лечить спятившего…
Видимо, внимательный и почти сочувственный взгляд Романова слегка смутил врача. Он нервно кашлянул, одернул пиджак. Кашлянул опять. Агрессивно спросил:
– Что вы на меня так смотрите?!
– Жду, – снова вздохнул Романов. – Жду, когда на мою голову прольется кипящая смола. Или пол провалится. Или хотя бы все станет, как прежде. Непременно должно что-то случиться. Разве нет? Вы так грозно произнесли эту бессмыслицу…
Врач сник. Сник сразу и прочно. Но все-таки тихо сказал, покачав головой:
– Мир, который построите вы, будет ужасен.
– Возможно, – не стал спорить Романов. – Но проблема в том, что вы не можете построить вообще никакого мира. Можете только умереть. А полтораста тысяч человек в этом городе умирать не хотят. И тем не менее многие из них все-таки умрут. И я им тоже ничем не смогу помочь… – Он чуть откинулся назад и крикнул (Лабунько вздрогнул): – Дежурный!
Вошел лейтенант Белюков, отсалютовал на новый манер – новый салют все больше и больше приживался даже среди военных, особенно молодых. Романов кивнул ему на бессильно опустившегося на стул врача:
– Устройте гражданину получасовую экскурсию по палатам, где лежат дети, больные лучевкой. После чего отправляйтесь по адресу, который он назовет. Осмотрите там все и сделайте заключение о пригодности использования здания, численности персонала, лекарствах… обо всем. Через шесть часов жду с докладом.
– Есть! – Белюков снова отсалютовал. Положил руку на плечо Лабунько – тот поднял ненормальные глаза. – Пойдемте.
Врач вдруг взвизгнул – так, что лейтенант отскочил, мгновенно выхватив пистолет. Метнулся прямо со стула к открытому окну, за которым шуршала листва и…
– Черт! – Белюков рванулся следом, сам чуть не вылетел наружу.
Снизу послышались крики, неясный шум, и Романов, медленно вставая, подумал, что к вечеру по городу поползут слухи: он выбрасывает посетителей из окон.
– Готов! Черт, Коль, – Белюков повернул к бывшему сослуживцу, а ныне командиру перекошенное отчаяньем лицо, – мозги на весь тротуар… Черт! Он же врач был?! Ччеррр…
– Как мило… – прошептал Романов. – Какой легкий и удобный путь остаться правым и чистым… – Тряхнул головой и кивнул Белюкову: – ерунда. Запиши адрес, отправляйся, сделай, что я сказал…
С тех пор как Женька стал заниматься юной агентурой, причем всерьез, обедать Романову пришлось начать в общей столовой. Она была на первом этаже, а его кабинет – на шестом, лифты же, кроме экстренного, были обесточены. Не то чтобы эта беготня оказалась тяжелой и не то чтобы он не мог приказать – с полным основанием – подавать себе еду в кабинет… но Романов неожиданно обнаружил, что эти три раза в день, когда он спускается и поднимается на десять пролетов по лестнице черного хода, в сущности, единственное время в его рабочем дне, кроме сна, когда он может ничего не делать. Просто идти.
И очень дорожил этими прогулками…
Меню он утверждал сам. Требование было простым – чтобы оно не было лучше, чем в десяти городских детских домах. Однажды требование нарушили, и пожелавшего «угодить начальству» старшего повара смены повесили на подъездной аллее. Кстати, там же был повешен и предыдущий директор детского дома № 4: казавшийся сначала абсолютно надежным, он был уличен одним из мальчишек Жарко в том, что «прикармливал» уворованным свою семью. Короткое расследование показало справедливость обвинения. Вместе с директором повесили его жену и старшего – пятнадцатилетнего – сына, так как было выяснено, что они оба знали о действиях мужа и отца. Одиннадцатилетнюю дочь передали без огласки в детдом № 7.
Хегай Ли Дэ на каждом совещании уверял, что при тщательном нормировании запасов продуктов хватит до следующего лета, даже если население вырастет еще вдвое и если не учитывать продукцию подсобных хозяйств и всякие буквально расцветшие «огородики на подоконниках». В ответ на замечание, что лета может и не быть, кореец спокойно отвечал, что к тому времени будут запущены комплексы теплиц – это раз. А два – можно вскрыть нетронутые склады мобрезерва Приморья. Там запасы продуктов на три миллиона человек на пять лет. И тут же добавлял, что никаких «но» не будет, и теплицы, и фермы с искусственным освещением заработают в срок…
В столовой играла музыка. По внутренней сети, через репродукторы на углах улиц и площадях, музыку передавали постоянно – в основном вперемежку классику и марши с небольшими добавлениями бардовских песен, романсов и старой эстрады. Романов не знал, что играет сейчас, какие-то скрипки и флейты, но музыка была приятной. Вспомнилось, что вчера приходили трое молодых парней, которые брались осенью – к празднику Таусень[7] (Романов не слышал даже о таком) – организовать большой музыкальный фестиваль. «С нормальной, понимаете, музыкой», – не очень вразумительно, но в то же время совершенно ясно пообещал один из них.